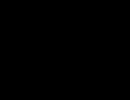Хождение игумена даниила в святые места читать. О пещере, где христос начал учить своих учеников
Уже в XI столетии начинаются путешествия русских людей на христианский Восток, ко «святым местам». Эти путешествия-паломничества (путешественник, побывавший в Палестине, приносил с собой пальмовую ветвь; паломников называли также каликами - от греческого названия обуви - калига, надеваемой путником) содействовали расширению и укреплению международных связей Киевской Руси, способствовали выработке национального самосознания.
Однако светская власть постаралась наложить на паломничество свое вето, когда оно стало приобретать массовый характер, нанося тем самым серьезный ущерб княжеской экономике. Постепенно запрет распространился с мирян на монахов, которым предписывалось «не ногами искать спасения и бога», а неукоснительным исполнением своих обязанностей и обетов у себя дома. Запросы людей, лишенных возможности побывать в Палестине, удовлетворяют описания путешествий-хождений. Так, в начале XII в. возникает «Хождение игумена Даниила в Святую землю».
Игумен Даниил совершил паломничество в Палестину в 1106- 1108 гг. Далекое путешествие Даниил предпринял, «понужен мыслию своею и нетерпением», желая видеть «святый град Иерусалим и землю обетованную», и «любве ради святых мест сих исписах все, еже видех очима своима». Его произведение написано «верных ради человек», с тем чтобы они, услышав о «местах сих святых», устремлялись к этим местам мыслью и душою и тем самым приняли «от бога равную мзду» с теми, которые «доходили сих святых мест». Таким образом, Даниил придавал своему «Хождению» не только познавательное, но и нравственное, воспитательное значение: его читатели - слушатели должны мысленно проделать то же путешествие и получить ту же пользу для души, что и сам путешественник.
«Хождение» Даниила представляет большой интерес подробным описанием «святых мест» и личностью самого автора, хотя оно и начинается этикетным самоуничижением.
Рассказывая о нелегком путешествии, Даниил отмечает, как трудно «испытать и видети всех святых мест» без хорошего «вожа» и без знания языка. Сначала Даниил вынужден был давать от своего «худаго добыточка» людям, знающим те места, с тем чтобы они ему их показали. Однако вскоре ему повезло: он нашел в монастыре св. Саввы, где остановился, старого мужа, «книжна велми», который и ознакомил русского игумена со всеми достопримечательностями Иерусалима и его окрестностей.
Даниил обнаруживает большую любознательность: его интересует природа, планировка города и характер зданий Иерусалима, оросительная система у Иерихона. Ряд интересных сведений сообщает Даниил о реке Иордане, имеющей с одной стороны берега пологие, а с другой - крутые и во всем напоминающей русскую реку Сновь. Русский паломник сам «измерих и искусих» эту знаменитую реку, «перебредя» ее с одного берега на другой. Желая русским читателям ярче представить Иордан, Даниил неоднократно подчеркивает: «Всем же есть подобен Иордан к реце Сновьстей и в шире, и в глубле, и лукаво течет и быстро велми, яко же Снов река». Описывая невысокие деревья, растущие на берегу Иордана, Даниил говорит, что они напоминают нашу вербу, а кустарник-лозу, но тут же спешит уточнить: «...но несть якоже наша лоза, некако аки силяжи (кизиль) подобно есть». Очевидно, русский игумен не преминул испить иорданской воды, после чего записал: «...вода же мутна велми и сладка пити, и несть сыти пиюще воду ту святую; ни с нея болеть, ни пакости во чреве человеку».
Он описывает плодородие иерусалимских земель, где «жито добро рождается», поскольку «земля добра и многоплодна, и поле красно и ровно, и около его финици мнози стоят высоци и всякая древеса многоплодовита суть». Остров Самос богат рыбой, а Икос - скотом и людьми, отмечает Даниил.
Стремится Даниил передать своим читателям и те чувства, которые испытывает всякий христианин, подходя к Иерусалиму: это чувства «великой радости» и «слез пролития». Подробно описывает игумен путь к городским воротам мимо столпа Давидова, архитектуру и размеры храмов. Так, например, церковь Воскресения, пишет Даниил, «образом кругла, всямокачна (т. е. со всех сторон покатая) и в дле и преки (поперек) имать же сажень 30». А церковь Святая святых от Воскресения подальше, «яко дважды дострелити можеть». Эта церковь «дивно и хитро создана», украшена изнутри мозаикой и «красота ея несказанно есть; кругла образом создана; извну написано хитро и несказанно; стены ей избьены дъсками мраморными другого мрамора...». Там же, отмечает игумен, был дом Соломонов, «силно было здание его и велико велми и зело красно. Мощен был есть мраморными дъсками и есть на комарах утвержен, и воды исполнен весь дом-от был».
В двух верстах от Иерусалима находится небольшой городок Вифания. Расположен он за горою на ровном месте, а в городке том, справа от ворот, находится пещера, где погребен был Лазарь.
Как отмечают исследователи, описания Даниила позволяют установить довольно точную топографию Иерусалима начала XII столетия.
Большое место в «Хождении» занимают легенды, которые Даниил либо слышал во время своего путешествия, либо вычитал в письменных источниках. Он легко совмещает в своем сознании каноническое писание и апокрифы. Так, Даниил с полной убежденностью пишет о том, что вне стены церкви Воскресения за алтарем есть «пуп земли», а в 12 саженях от него находилось распятие, где стоит превышающий высоту копья камень с отверстием глубиной в локоть; в это отверстие и был вставлен крест, на котором распяли Христа. Под этим же камнем лежит голова Адама, и, когда Христа распяли, камень треснул и кровь Христа омыла голову Адама, т. е. все грехи человеческого рода. Достоверность данного «факта» Даниил торопится подкрепить чисто летописным приемом: «И есть разселина та на камени том и до днешняго дни». Приведенная Даниилом апокрифическая легенда иллюстрировала христианский догмат искупительной жертвы Христа и была закреплена древнерусской живописью.
Хотя внимание Даниила и поглощено вопросами религиозными, это не мешает ему сознавать себя полномочным представителем Русской земли в Палестине. Он с гордостью сообщает, что его, русского игумена, с честью принял король Балдуин (Иерусалим во время пребывания в нем Даниила был захвачен крестоносцами). Он молился у гроба господня за всю Русскую землю. И когда лампада, поставленная Даниилом от имени всей Русской земли, зажглась, а «фляжская» (римская) не зажглась, то он видит в этом проявление особой божьей милости и благоволения к Русской земле.
Таким образом, путешествие, предпринятое с чисто религиозной целью, своим патриотическим пафосом перекликается с летописью и другими произведениями XI-XII вв.
Сегодня во многом утрачены истинные традиции православия, но современные люди могут судить о них по документам из прошлого. Например, было принято совершать паломничества в Святую Землю. Игумен Даниил оставил подробное описание своего путешествия, совершенного много столетий назад.
Загадочный инок - биография Игумена
История сохранила очень немного сведений о самом игумене Данииле. Но большинство ученых считает, что жил он во второй половине 11 - начале 12 вв. Родился в черниговской губернии, поступил в Киево-Печерский монастырь. Там он со временем стал игуменом. Затем был рукоположен в сан епископа. Также известно, что он скончался осенью 1122 г.
Само паломничество в Святую землю игумен Даниил совершил в 1104-1006 гг. О себе он пишет очень мало, у монахов это не принято. Их удел - молиться в тишине своей кельи, спасая не только свои души, но и совершая молитвенный подвиг за всех, кто называет себя верующими.
История о паломничестве
Поскольку путешествие в те времена было достаточно трудным испытанием и не все были способны его совершить, монах решил составить его описание. Ведь он дошел до самого святого града Иерусалима, и одним из первых оставил подробный литературный труд на эту тему.
Многие читали эту историю, о чем можно судить по большому количеству рукописных копий того времени - списков. В распоряжении историков оказалось их более сотни, поэтому им удалось восстановить практически полный текст «Хождения» игумена Даниила. Это произведение до сих пор считается литературным шедевром, ведь оно отражает рассказ о христианских святынях, о быте того времени, разных сферах жизни, дает бесценный исторический материал для изучения.
Краткое содержание хождения Игумена Даниила
Современному человеку довольно сложно воспринимать текст, написанный около тысячи лет назад на славянском языке. Поэтому многие знакомятся с «Хождением» игумена Даниила в сокращенной форме.
Книга разделена на большое количество глав, они не очень длинные. Каждая имеет собственный заголовок, в котором отражена тема.
- О том, как проходила дорога до Иерусалима.
- Об острове Патмос.
- О Кипре.
- О горе, на которой св. Елена поставила Крест Господень.
- О пещере, где родился Спаситель.
Монах посетил множество святых мест, которые имеются на Святой Земле. И в наши дни туристы едут туда, даже если не причисляют себя к христианам. Придя в святой город, монах жил в обители св. Саввы более года. Он все средства растратил на то, чтобы оплатить услуги местных гидов, но нашелся старец, который стал водить его бесплатно.
Конечно, принято в первую очередь посещать Храм Гроба Господня, пещеру Воскресения, проходить крестный путь, которым шел Христос. Но игумен Даниил на этом не остановился. Он посетил множество храмов, побывал в Греции - например, на острове Патмос, где находился в заключении апостол Иоанн. Также обошел всю Галилею.
В те времена путешествие было не только очень долгим, но и опасным. Например, во время приближения к святому городу многие рисковали подвергнуться нападению грабителей. Иерусалим окружен пустыней, к тому же чтобы подойти к нему, надо осуществить продолжительный и трудный подъем. Поэтому большинство паломников плакали от радости, увидев впереди ворота Святого Города.
Путнику удалось окунуться в воды священной реки Иордан, в чьи воды опускался Господь. Побывал он в церкви, где стояла горница Тайной вечери, молился в комнате, где совершилось успение Божией Матери. Посетил он множество мощей святых, чьими жертвами распространилось христианство в первые столетия. Восходил на Фаворскую гору, посетил и Назарет. Получилось насыщенное путешествие, полезное для души.
Игумен даниил - биография, краткое содержание его хождения was last modified: Июль 1st, 2017 by Bogolub
Отличная статья 0
Хождение игумена Даниила
После завоевания Иерусалима крестоносцами в 1099 г. и образования Иерусалимского королевства ширится паломническое движение русских через Константинополь в Палестину. Общее религиозное воодушевление неудержимо влечет их в Землю обетованную. Возле пустынь и монастырей собираются богомольцы – «калики перехожие».
А из пустыни было Ефимьевы,
Из монастыря из Боголюбова
Начинали калики наряжатися
Ко святому граду Ерусалиму.
Одним из таких пытливых, предприимчивых и безунывных людей был игумен Даниил: в 1104–1106 гг. он посетил владения иерусалимского короля Балдуина I: «Се аз недостойный игумен Данил русския земля, хужши во всех мнисех, смеренный грехи многими… понужен мыслию своею и нетерпением моим, похотех видети святый град Иерусалим и землю обетованную». Духовной пользы ради путешественник обошел все святыни «до Тивириадского моря… и до Фаворы, и до Назарета, и до Хеврона, и до Иордана» и оставил обстоятельные записки. «Любве ради святых мест сих, исписах все, еже видех очима своима…». Распространенное во множестве списков «Хоженье» Даниила было излюбленным чтением многих людей, которые мечтали «сходить-то ко граду Еросолиму».
Ко святой святыни богу помолитисе,
Ко Господню гробу нам да приложитисе,
А во Ердань реки окунатисе…
Рис. 40. Путь игумена Даниила из Константинополя в Иерусалим: а – города, в которых останавливался игумен Даниил; б – путь, проделанный игуменом Даниилом .
В Палестину Даниил плыл морем (рис. 40) через Царь-град (Константинополь) вдоль каменистых прибрежий Малой Азии; его корабль заходил в гавани Родоса и Кипра. Кратко перечисляя остановки, он повествует об островах «Великого» (Эгейского) моря, где разводили скот, варили серу, а из смолы дерева «зигии» приготовляли ладан, об Эфесе («обилен же есть всем добром») со знаменитой пещерой семи отроков, «иже спали 300 и 60 лет; при Декии цари усопша, а при Феодосии цари явишась».
Как и Зеевульф, он испытал превратности пути «по суху» из Яффы в Иерусалим, где котловины сменялись котловинами, ущелья – ущельями: «бо пусто место то», «выходят бо оттуду срацини и избивають». Наконец перед глазами измученных путников – панорама Святого града, окруженного глубокими долинами и оврагами. Она развертывается по мере постепенного приближения – читатель как будто участвует в открывшемся зрелище. Вот уже видны массивные зубчатые стены с внушительными квадратными башнями, нагромождение плоских кровель, над которыми вознеслись купола мечети Омара («Святая святых») и храма Воскресения.
«Есть же святый град Иерусалим в дебрех, около его горы камены и высокы. Да нолны (уже) пришедше близько граду тоже видети первое столп Давидов и потом, дошедше мало, увидети Елеоньскую гору и Святая святых и Воскресение церковь и узрети потом весь град И ту есть гора равна от пути близ града Иерусалима, яко версты вдале; на той горе сседают с конь вси людие и поставляют крестьци ту и поклоняются святому Воскресению на дозоре (на виду) граду… И идут вси пеши с радостию великою к граду Иерусалиму».
Неисчислимые достопримечательности Иерусалима и его окрестностей Даниил описал с мельчайшими подробностями и удивительной топографической точностью. Он был весьма набожным и возвышенно настроенным пилигримом, который свято верил в библейские предания о реликвиях: в «путеводитель» по волнистым плоскогорьям Иудеи попали преимущественно «святые места». Но его добросовестный дневник интересен не только как памятник, характеризующий умонастроение образованного человека Средневековья. В нем прихотливо переплетены исторические, географические, этнографические сведения.
«Очарованный странник» ходил кривыми, узкими улочками Иерусалима, его извилистыми лестницами с полустертыми миллионами ног ступенями, сам измерил глубину и ширину быстрого Иордана, вода которого «мутна велми и сладка пити», с трудом взобрался на гору Фавор, «якоже стог кругол» («есть гора та вся камена, лести же на ню трудно и бедно велми по камению, руками на ню лести, путь тяжек велми; едва бо на ню взлезохом от 3-го часа до 9-го часа»), дотошно пересчитал «столпы» в церкви Воскресения и число ступеней, ведущих на Голгофу. Даниилом владела любовь к точным числовым обозначениям, будь то расстояние между островами и населенными пунктами (в верстах), глубина реки (в саженях) или размеры углубления – «скважни» от креста, на котором, согласно легенде, распяли Иисуса (в локтях).
Историк архитектуры найдет в дорожнике Даниила сведения о зданиях, «красно» украшенных «досками мраморяными», «мусией» (мозаиками) и «сребреными чешюями позлащенными». Многие из них стерты с лица земли или перестроены (к примеру, храм на Елеонской горе, с вершины которой через 40 дней после казни Христос якобы вознесся на небо). «И есть место то оздано все комарами (сводами) около, и верх на комарах тех создан есть, яко двор камень кругом и помещен есть весь двор мраморными досками. И посреди того двора есть создан аки теремець кругло, и есть без верха… и в том теремци… лежит каменет святый, идеже стоясте и нозе пречистеи владыки нашего…» До сих пор паломники восходят на Елеонскую гору, чтобы поклониться известковому камню с углублением в форме ступни.
Даниил рассказывает о природе Палестины, о ее растительном и животном мире. Извилистая стремнина Иордана с каймой ив, тамарисков и камышей по берегам напомнила ему русскую речку Снов: «Есть же по сей стране Иордана на купели той, яко леей древо не высоко, аки вербе подобно есть, и выше купели тоя по брегу Иорданову стоит яко лозие много… Зверь мног ту и свинии дикий бещисла много, и пардуси мнози, ту суть Львове же». Пером «самовидца» описано Богом проклятое Мертвое (Содомское) море, внушавшее страх пилигримам: «Море же Содомьское мертво есть, не имать в себе никакоже животна, ни рыбы, ни рака, ни сколии (раковины); но обаче внесеть быстрость Иорданьская рыбу в море то, то не можеть жива быти ни мала часа, но вскоре умираеть; исходит бо из дна моря того смола черная верху воды тоя и лежит по брегу тому смола та много; и смрад исходит из моря того, яко от серы горяща; ту бо есть мука под морем тем».
Жгуче-горькие воды Мертвого моря и его безжизненное побережье навевали мысли о близости преисподней.
Русского паломника живо интересовали хозяйство и занятия местных жителей: «Безводно место то есть; ни реки, ни кладязя, ни источника несть близ Иерусалима… И жита добра ражаються около Иерусалима в камении том без дожда… родиться пшеница и ячмень изрядно: едину бо кадь всеяв и взяти 90 кадей, а другоици 100 кадей по единой кади… Суть винограда мнози около Иерусалима и овощнаа древеса многоплодовита: смокви и Ягодина, и масличие…»
Даниил как бы проводит будущих странников по кремнистым дорогам «земли галилейской», ярко повествуя о трудностях и лишениях странствия по ее библейским холмам, где невозможно обойтись без «вожа» (провожатого) и без знания языка. Он в полной мере познал суровую действительность паломничества. Путь к долине Иордана «тяжек велми и страшен и безводен: суть бо горы высокы камены, и суть разбои мнози, и разбивають в горах тех и в дебрех страшных… А от Иерихона до Иордана 6 верст великых, все по равну в песце, путь тяжек велми; ту мнози человеци задыхаються от зноя и ищезають, от жажи водныя умирають…» Еще в XIX в. путь к Иордану был долог и полон невзгод. Паломники ехали на лошадях или мулах, брали с собой вооруженных проводников на случай нападения хищников или разбойников. Вот почему Даниил никогда не путешествовал в одиночку: то присоединялся к «доброй дружине» – отрядам разноплеменных пилигримов, то следовал к Тивериадскому озеру вместе с войсками крестоносцев Балдуина, шедших на сельджукского эмира Дамаска («а без вой путем те» никтоже может пройти»). Ходить «без страха и без пакости» неутомимому игумену помогал опытный проводник – «муж свят» и «книжна велми» из лавры св. Саввы.
Паломнические дружины, пересекавшие «землю желанную», были многонациональны. К гробу Господню стекались «все племена и народы», служба в храме Воскресения шла на разных языках. Даниил видел здесь «бещисленое множество народа, от всех стран пришелци и тоземци, и от Вавилона, и от Египьта, и от всех конец земли…» На празднике «святого света» собралась и «вся дружина, русьстии сынове, приключыпиися тогда во той день новогородци и кияне: Изяслав Иванович, Городислав Михайлович, Кашкича и инии мнози». Как видим, Даниил не был одинок в своих скитаниях. В Иерусалиме на подворье русских монахов находили приют другие странники – избранные, «церковные» люди. Летопись сообщает: в 1163 г. «ходиша из Великого Новагорода от святей Софии 40 муж калици ко граду Иерусалиму, ко гробу Господню». Отголоски этого хождения усматривают в былинах о «сорока каликах»:
Ай самы надевали как платья калицкия,
Как тут оны кладывали да подсумки,
Ай подсумки да каличьии,
На свои плеча ведь да богатырския,
Ай как брали оны по клюки по дорожныей,
Ай как тут оны да отправились,
Ай как ведь пошли как удалы добры молодцы
Ай ко граду ведь да Еросолиму.
В 1173 г. в русском монастыре Иерусалима скончалась «благочестивая и премудрая» игуменья Евфросиния (в миру Предислава – дочь полоцкого князя Георгия Всеславича). С родным братом Давидом и родственницей Евпраксией эта женщина отправилась на поклон «живоносному гробу Христову». В Царьграде ее приняли царь и патриарх. Из византийской столицы Евфросиния «пойде в Иерусалим» и «обыде же и вся святая иерусалимская места».
В самом начале XIII столетия в Константинополе (городе при слиянии водных путей и путей караванных) побывал новгородец Добрыня Ядрейкович (впоследствии Антоний – архиепископ новгородский).

Рис. 41. Интерьер храма св. Софии в Константинополе. 532–537 гг.
Путешественник составил детальное описание исторических мест и «достославных святынь» Царьграда. В церкви св. Георгия его внимание привлекла гробница именитого русского паломника: «Святый Леонтей поп Русин лежит в теле, велик человек: той бо Леонтий трижды в Иеросалим пешь ходил». Но более всего Добрыню поразил величественный храм Софии – одно из чудес света, творение зодчих Юстиниана (рис. 41). Среди его необъятного простора молящиеся выглядели просто пигмеями. Чужестранцев изумляли огромный, но кажущийся необычайно легким купол, отлогие каменные всходы на хоры, где могли проехать две колесницы. В недрах собора хранились сокровища искусства и предметы роскоши – священные в глазах паломника «хитрости Царяграда». Среди знаменитых икон и драгоценной утвари св. Софии и «царских златых полат» Добрыня видел сосуды, «иже принесоша Христу с дары волсви», и «блюдо велико злато служебное Олгы Руской, когда взяла дань, ходивши ко Царюграду», и «трубу медную Ерихоньскаго взятия Иисуса Навгина», и «палицу Моисееву». «Хождение» Добрыни – уникальный свод археологических данных о Царьграде накануне его разгрома крестоносными варварами в 1204 г.
Греческие и палестинские реликвии особенно ценили на Руси. Игумен Даниил приобрел лампаду, горевшую у гроба Господня; Добрыня Ядрейкович доставил в Новгород «гроб Господень» («модель» иерусалимской церкви Воскресения?)
Из книги Стратагемы. О китайском искусстве жить и выживать. ТТ. 1, 2 автора фон Зенгер Харро34.20. Хождение в Каноссу Гильдебранд, сын итальянского крестьянина, взошел в Риме на папский престол . Став первосвященником, он получил имя Григория VII [между 1015 и 1020–1085 гг.]. Новоиспеченный папа решил довести до победного конца борьбу с императором; духовная власть
Из книги История Крестовых походов автора Монусова ЕкатеринаХождение по мукам Часть отрядов вел некий обедневший рыцарь по имени Вальтер Неимущий. Его войско шествовало в авангарде и первым достигло Венгрии. Здесь доморощенные радетели за Гроб Господень с удивлением обнаружили, что их, в общем-то, никто не ждет – как говорится,
Из книги Люди бездны автора Лондон ДжекГЛАВА X. «ХОЖДЕНИЕ С ФЛАГОМ» Я не хочу, чтобы рабочий был принесен в жертву плодам своего труда. Я не хочу, чтобы рабочий был принесен в жертву моим удобствам и моему тщеславию или же удобствам и тщеславию всего класса, состоящего из таких, как я. Пусть ситец будет хуже, а
Из книги Повседневная жизнь Русской армии во времена суворовских войн автора Охлябинин Сергей ДмитриевичБестужев - хождение по мукам Бестужев, арестованный в феврале 1758 года, всего через месяц после заточения под стражу Апраксина, предстал перед следственной комиссией из трех членов - князя Трубецкого, графа Бутурлина и графа А. Шувалова при секретаре Волкове.
Из книги Покушения и инсценировки: От Ленина до Ельцина автора Зенькович Николай АлександровичПЕШЕЕ ХОЖДЕНИЕ - ПРЕКРАТИТЬ! Нынешний молодой читатель, немало наслышанный о бесчисленной охране Сталина, о его сверхподозрителъности и ультрабдительности, будет, наверное, в немалой степени удивлен, когда узнает о малоизвестном факте: до начала тридцатых годов Сталин
Из книги 100 великих тайн Востока [с иллюстрациями] автора Непомнящий Николай НиколаевичХождение за три моря. А зачем? В начале XIX в. наш великий писатель и историк Николай Михайлович Карамзин обнаружил эти записи в древлехранилище Троице-Сергиева монастыря. Прочитал и был поражен: «Доселе географы не знали, что честь одного из древнейших описаний
Из книги 500 знаменитых исторических событий автора Карнацевич Владислав ЛеонидовичХОЖДЕНИЕ ГЕНРИХА IV В КАНОССУ Развалины замка КаноссаБорьба между императором и папой, начавшаяся в правление Николая II, длилась многие годы. Главным стал вопрос об инвеституре, т. е. о влиянии на духовенство. Рим претендовал на эксклюзивное право руководить всеми
Из книги Русские на чужбине, X–XX вв. [Неизвестные страницы истории жизни русских людей за пределами Отечества] автора Соловьев Владимир МихайловичХождение в Поднебесную Отношения между Московией и Великой Поднебесной империей – Китаем завязались в начале XVII века. В мае 1618 года из сибирского города Томска пустилась в дальний путь экспедиция во главе с Иваном Петелиным, Андреем Мундовым и Петром Кизиловым. Все трое
Из книги Государевы вольнодумцы. Загадка Русского Средневековья автора Смирнов Виктор Григорьевич«Исследование о сочинениях Иосифа Санина, преподобного игумена Волоцкого» Иосиф в борьбе с ересьюИосифов монастырь зачался в самые тяжелые для Новгорода годы. Это было, как мы видели выше, в 1479 (6987) году, в июне, в период между третьим и четвертым походом Ивана III на
Из книги Допетровская Русь. Исторические портреты. автора Федорова Ольга Петровна Из книги Россия и ислам. Том 1 автора Батунский Марк Абрамович5. «Хожение» черниговского игумена Даниила В свете сказанного особого внимания заслуживает такая колоритная фигура248, как черниговский игумен Даниил, совершивший поездку (в 1104–1106 или 1105–1107 гг.) во владения иерусалимского короля Балдуина249.В своем мастерски написанном
Из книги Дневник Верховского автора Сафронов Юрий ИвановичГлава IX. ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ В начале января 1918 года Верховский, не желая принимать участия в начинающейся ненавистной ему Гражданской войне, принял решение идти продолжать войну с Германией, поступив на службу во французскую или американскую армию. С этой целью он посетил
Из книги Жизнь в родной земле автора Балинт Вилем Андреевич18. Хождение по мукам - Вас уволили с работы, после краха предприятия, в котором вы работали, в январе месяце 1937 года, - при новой встрече обращаюсь я к моему собеседнику. - Уволили вас с «волчьим билетом», устроиться с которым вновь на работу, по вашим словам, вещь
Из книги История Угреши. Выпуск 1 автора Егорова Елена Николаевна Из книги Мечта о русском единстве. Киевский синопсис (1674) автора Сапожникова И Ю94. ПОСЛАНИЕ ОТ ИГУМЕНА СЕРГИЯ. СИЕ ЕМУ ГЛАГОЛЮЩУ, се принесено послание к нему от Преподобнаго Сергия Игумена, в нем же бе писано сице: «Великому Князю Димитрию Ивановичу и всем Князем Российским и всему православному воинству мир и благословение». Еще же посланник даде
Из книги Энциклопедия славянской культуры, письменности и мифологии автора Кононенко Алексей АнатольевичДаниила столпника 30 декабря преподобного Даниила столпника, который 33 года провел на столпе (410–490). К святому схимнику за советами и исцелением обращались византийские императоры.В этот день запрещалось работать режущими, всякими острыми предметами. Не стригли ногти,
«Хождениями» в древнерусской литературе
назывались произведения, в которых описывались путешествия-паломничества
в Палестину, Византию, страны Востока. Главной целью
было поклонение христианским
святыням
в Вифлееме, Иерусалиме, Константинополе и в других восточнохристианских центрах. Хождения совершались как официальными представителями русской церкви, так и по собственной инициативе или обету паломников (их называли “каликами перехожими”). Они жаждали увидеть место рождения Иисуса Христа, описанные в Евангелиях
холмы, сады, здания, колодцы и т. д., пройти “крестный путь” Христа до Голгофы, посетить храм Гроба Господня.
Подобные хождения совершались на протяжении всего средневековья; некоторые из путников сочетали благочестивые цели с торговыми и дипломатическими интересами. Такие путешественники стали называться «паломниками»
от слова «пальма»
. Побывавший в Палестине, приносил с
собой пальмовую ветвь; паломников называли также каликами – от греческого названия обуви – калига, надеваемой путником.
Эти путешествия-паломничества содействовали расширению и укреплению международных связей Киевской Руси, способствовали формированию национального самосознания. Однако светская власть постаралась наложить на паломничество своё вето, когда оно стало приобретать
массовый характер, нанося тем самым серьёзный ущерб княжеской экономике. Постепенно запрет распространился с мирян на монахов, которым предписывалось «не ногами искать спасения и бога», а неукоснительным исполнением своих обязанностей и обетов у себя дома.
Несколько позднее, начиная с XII века, церковные власти стали бороться с массовым паломничеством. Новгородский епископ Нифонт, указал даже на вред паломничества, объясняя его стремлением людей праздно жить,
кормясь милостыней: «порозну ходяче ясти и пити».
Известно более семидесяти произведений
, написанных в жанре «хождения», они составляли заметную часть в круге чтения Древней Руси. Среди «хождений
» известны так называемые «путники»
- краткие указатели маршрутов, содержавшие только перечень пунктов
, через которые пролегал путь паломника из Руси в Святую землю
. Пример такого «путника» - «Сказание Епифания мниха о пути к Иерусалиму»: «От великаго Новограда до Великих Лук 300 верьст, от Лук до Полоцка 180... от Царя-града Евксеньским (Черным) морем... и всего от великаго Новограда до
Иерусалима 3420 верьст. Аминь».
Но чаще всего хождения содержали не только описание маршрута, но и сведения географического и этнографического характера, а самое главное - личные впечатления паломников от увиденного (описания соборов, их росписи и утвари, богослужения и т. д.) и пересказ сюжетов Священного писания или
апокрифических легенд, соотносимых с посещенными паломником достопримечательностями.
Запросы людей, лишенных возможности побывать в Палестине, удовлетворяют описания путешествий-хождений. Так, в начале XII в. возникает "Хождение игумена Даниила в Святую землю".
Игумен Даниил совершил паломничество в Палестину в 1106- 1108 гг. Далекое путешествие Даниил предпринял, "понужен мыслию своею и нетерпением", желая видеть "святый град Иерусалим и землю обетованную", и "любве ради святых мест сих исписах все, еже видех очима своима". Его произведение написано "верных ради человек", с тем чтобы они, услышав о "местах сих святых", устремлялись к этим местам мыслью и душою и тем самым приняли "от бога равную мзду" с теми, которые "доходили сих святых мест". Таким образом, Даниил придавал своему "Хождению" не только познавательное, но и нравственное, воспитательное значение: его читатели - слушатели должны мысленно проделать то же путешествие и получить ту же пользу для души, что и сам путешественник.
"Хождение" Даниила представляет большой интерес подробным описанием "святых мест" и личностью самого автора, хотя оно и начинается этикетным самоуничижением.
Рассказывая о нелегком путешествии, Даниил отмечает, как трудно "испытать и видети всех святых мест" без хорошего "вожа" и без знания языка . Сначала Даниил вынужден был давать от своего "худаго добыточка" людям, знающим те места, с тем чтобы они ему их показали. Однако вскоре ему повезло: он нашел в монастыре св. Саввы, где остановился, старого мужа, "книжна велми", который и ознакомил русского игумена со всеми достопримечательностями Иерусалима и его окрестностей.
Даниил обнаруживает большую любознательность : его интересует природа, планировка города и характер зданий Иерусалима, оросительная система у Иерихона. Ряд интересных сведений сообщает Даниил о реке Иордане, имеющей с одной стороны берега пологие, а с другой - крутые и во всем напоминающей русскую реку Сновь. Русский паломник сам "измерих и искусих" эту знаменитую реку, "перебредя" ее с одного берега на другой. Желая русским читателям ярче представить Иордан, Даниил неоднократно подчеркивает: "Всем же есть подобен Иордан к реце Сновьстей и в шире, и в глубле, и лукаво течет и быстро велми, яко же Снов река". Описывая невысокие деревья, растущие на берегу Иордана, Даниил говорит, что они напоминают нашу вербу, а кустарник-лозу, но тут же спешит уточнить: "...но несть якоже наша лоза, некако аки силяжи (кизиль) подобно есть" . Очевидно, русский игумен не преминул испить иорданской воды, после чего записал: "...вода же мутна велми и сладка пити, и несть сыти пиюще воду ту святую; ни с нея болеть, ни пакости во чреве человеку".
Он описывает плодородие иерусалимских земель , где "жито добро рождается", поскольку "земля добра и многоплодна, и поле красно и ровно, и около его финици мнози стоят высоци и всякая древеса многоплодовита суть". Остров Самос богат рыбой, а Икос - скотом и людьми, отмечает Даниил.
Стремится Даниил передать своим читателям и те чувства, которые испытывает всякий христианин, подходя к Иерусалиму : это чувства "великой радости" и "слез пролития". Подробно описывает игумен путь к городским воротам мимо столпа Давидова, архитектуру и размеры храмов. Так, например, церковь Воскресения, пишет Даниил, "образом кругла, всямокачна (т. е. со всех сторон покатая) и в дле и преки (поперек) имать же сажень 30". А церковь Святая святых от Воскресения подальше, "яко дважды дострелити можеть". Эта церковь "дивно и хитро создана", украшена изнутри мозаикой и "красота ея несказанно есть; кругла образом создана; извну написано хитро и несказанно; стены ей избьены дъсками мраморными другого мрамора...". Там же, отмечает игумен, был дом Соломонов, "силно было здание его и велико велми и зело красно. Мощен был есть мраморными дъсками и есть на комарах утвержен, и воды исполнен весь дом-от был".
В двух верстах от Иерусалима находится небольшой городок Вифания. Расположен он за горою на ровном месте, а в городке том, справа от ворот, находится пещера, где погребен был Лазарь.
Как отмечают исследователи, описания Даниила позволяют установить довольно точную топографию Иерусалима начала XII столетия.
Большое место в "Хождении" занимают легенды , которые Даниил либо слышал во время своего путешествия, либо вычитал в письменных источниках. Он легко совмещает в своем сознании каноническое писание и апокрифы . Так, Даниил с полной убежденностью пишет о том, что вне стены церкви Воскресения за алтарем есть "пуп земли", а в 12 саженях от него находилось распятие, где стоит превышающий высоту копья камень с отверстием глубиной в локоть; в это отверстие и был вставлен крест, на котором распяли Христа. Под этим же камнем лежит голова Адама, и, когда Христа распяли, камень треснул и кровь Христа омыла голову Адама, т. е. все грехи человеческого рода. Достоверность данного "факта" Даниил торопится подкрепить чисто летописным приемом: "И есть разселина та на камени том и до днешняго дни". Приведенная Даниилом апокрифическая легенда иллюстрировала христианский догмат искупительной жертвы Христа и была закреплена древнерусской живописью.
Хотя внимание Даниила и поглощено вопросами религиозными, это не мешает ему сознавать себя полномочным представителем Русской земли в Палестине. Он с гордостью сообщает, что его, русского игумена, с честью принял король Балдуин (Иерусалим во время пребывания в нем Даниила был захвачен крестоносцами). Он молился у гроба господня за всю Русскую землю . И когда лампада, поставленная Даниилом от имени всей Русской земли, зажглась, а "фляжская" (римская) не зажглась, то он видит в этом проявление особой божьей милости и благоволения к Русской земле.
Таким образом, путешествие, предпринятое с чисто религиозной целью, своим патриотическим пафосом перекликается с летописью и другими произведениями XI-XII вв.
6. Одним из древнейших дошедших до нас величайших исторических и литературных памятников второй половины XI -начала XII столетия является "Повесть временных лет".
"Повесть временных лет" – выдающийся исторический и литературный памятник, отразивший становление древнерусского государства, его политический и культурный расцвет, а также начавшийся процесс феодального дробления.
Создана в первые десятилетия XII в. Дошла до нас в составе летописных сводов более позднего времени. Самые старшие из них - Лаврентьевская летопись - 1377 г., Ипатьевская, относящаяся к 20-м годам XV в., и Первая Новгородская летопись 30-х годов XIV в.
В Лаврентьевской летописи "Повесть временных лет" продолжена северорусской Суздальской летописью, доведенной до 1305 г., а Ипатьевская летопись помимо "Повести временных лет" содержит летопись Киевскую и Галицко-Волынскую, доведенную до 1292 г.
Все последующие летописные своды XV-XVI вв. непременно включали в свой состав "Повесть временных лет", подвергая ее редакционной и стилистической переработке.
Формирование летописи. История возникновения русской летописи привлекала к себе внимание не одного поколения русских ученых, начиная с Василия Никитича Татищева. Однако только Алексею Александровичу Шахматову, выдающемуся русскому филологу, в начале ХХ века удалось создать наиболее ценную научную гипотезу о составе, источниках и редакциях "Повести временных лет". При разработке своей гипотезы А. А. Шахматов блестяще применил сравнительно-исторический метод филологического изучения текста. Результаты исследования изложены в его работах "Разыскания о древнейших русских летописных сводах" (СПб., 1908) и "Повесть временных лет", (Т. 1. Пг., 1916).
В 1039 г. в Киеве учредили митрополию - самостоятельную церковную организацию. При дворе митрополита был создан "Древнейший Киевский свод", доведенный до 1037 г. Этот свод, предполагал А. А. Шахматов, возник на основе греческих переводных хроник и местного фольклорного материала. В Новгороде в 1036 г. создается Новгородская летопись, на ее основе и на основе "Древнейшего Киевского свода" в 1050 г. возникает "Древний Новгородский свод". В 1073 г. монах Киево-Печерского монастыря Никон Великий, используя "Древнейший Киевский свод", составил "Первый Киево-Печерский свод", куда включил также записи исторических событий, происшедших после смерти Ярослава Мудрого (1054).
На основании "Первого Киево-Печерского свода" и "Древнего Новгородского свода" 1050 г. создается в 1095 г. "Второй Киево-Печерский свод", или, как его сначала назвал Шахматов, "Начальный свод". Автор "Второго Киево-Печерского свода" дополнил свои источники материалами греческого хронографа, Паремийника, устными рассказами Яна Вышатича и житием Антония Печерского.
"Второй Киево-Печерский свод" и послужил основой "Повести временных лет", первая редакция которой была создана в 1113 г. монахом Киево-Печерского монастыря Нестором, вторая редакция - игуменом Выдубицкого монастыря Сильвестром в 1116 г. и третья - неизвестным автором - духовником князя Мстислава Владимировича.
Первая редакция "Повести временных лет" Нестора основное внимание в повествовании об исторических событиях конца XI - начала XII в. уделяла великому киевскому князю Святополку Изяславичу , умершему в 1113 г. Владимир Мономах, став после смерти Святополка великим киевским князем, передал ведение летописи в свой вотчинный Выдубицкий монастырь. Здесь игумен Сильвестр и осуществил редакторскую переработку текста Нестора, выдвинув на первый план фигуру Владимира Мономаха. Несохранившийся текст первой Нестеровой редакции "Повести временных лет" А. А. Шахматов реконструирует в своей работе "Повесть временных лет" (Т. 1). Вторую редакцию, по мнению ученого, лучше всего сохранила Лаврентьевская летопись, а третью - Ипатьевская.
Гипотеза А. А. Шахматова, столь блестяще восстанавливающая историю возникновения и развития начальной русской летописи, однако, пока остается гипотезой. Ее основные положения вызвали возражения Вас. Мих. Истрина.
Он считал, что в 1039 г. при дворе митрополита-грека путем сокращения хроники Георгия Амартола возник "Хронограф по великому изложению", дополненный русскими известиями. Выделенные из "Хронографа" в 1054 г., они составили первую редакцию "Повести временных лет", а вторая редакция создана Нестором в начале второго десятилетия XII в.
Гипотеза Д. С. Лихачева. Интересные уточнения гипотезы А. А. Шахматова сделаны Д. С. Лихачевым. Он отверг возможность существования в 1039 г. "Древнейшего Киевского свода" и связал историю возникновения летописания с конкретной борьбой, которую пришлось вести Киевскому государству в 30-50-е годы XI столетия против политических и религиозных притязаний Византийской империи. Византия стремилась превратить русскую церковь в свою политическую агентуру, что угрожало самостоятельности древнерусского государства. Притязания империи встречали активный отпор великокняжеской власти, которую в борьбе за политическую и религиозную самостоятельность Руси поддерживали широкие массы населения. Особого напряжения борьба Руси с Византией достигает в середине XI в. Великому князю киевскому Ярославу Мудрому удается высоко поднять политический авторитет Киева и Русского государства. Он закладывает прочные основы политической и религиозной самостоятельности Руси. В 1039 г. Ярослав добился учреждения в Киеве митрополии. Тем самым Византия признала известную самостоятельность русской церкви, хотя во главе ее оставался митрополит-грек. Кроме того, Ярослав добивался канонизации Ольги, Владимира и своих братьев Бориса и Глеба, убитых Святополком в 1015 г. В конце концов в Византии вынуждены были признать Бориса и Глеба русскими святыми, что явилось торжеством национальной политики Ярослава. Почитание этих первых русских святых приобрело характер национального культа, оно было связано с осуждением братоубийственных распрей, с идеей сохранения единства Русской земли.
Политическая борьба Руси с Византией переходит в открытое вооруженное столкновение: в 1050 г. Ярослав посылает войска на Константинополь во главе со своим сыном Владимиром. Хотя поход Владимира Ярославича и закончился поражением, Ярослав в 1051 г. возводит на митрополичий престол русского священника Илариона.
В этот период борьба за самостоятельность охватывает все области культуры Киевской Руси, в том числе и литературу. Д. С. Лихачев указывает, что летопись складывалась постепенно, в результате возникшего интереса к историческому прошлому родной земли и стремления сохранить для будущих потомков значительные события своего времени.
Исследователь предполагает, что в 30-40-е годы XI в. по распоряжению Ярослава Мудрого была произведена запись устных народных исторических преданий, которые Д. С. Лихачев условно называет "Сказания о первоначальном распространении христианства на Руси". В состав "Сказания" входили предания о крещении Ольги в Царьграде, о смерти двух мучеников-варягов, об испытании вер Владимиром и его крещении. Эти предания носили антивизантийский характер. Так, в сказании о крещении Ольги подчеркивалось превосходство русской княгини над греческим императором. Ольга отвергла притязания императора на свою руку, ловко "переклюкав" (перехитрив) его. Сказание утверждало, что русская княгиня не видела особой чести в предлагаемом ей браке. В своих отношениях с греческим императором Ольга проявляет чисто русскую смекалку, ум и находчивость. Она сохраняет чувство собственного достоинства, отстаивая честь родной земли.
Предание об испытании веры Владимиром подчеркивает, что христианство было принято Русью в результате свободного выбора, а не получено в качестве милостивого дара от греков.
В Киев, согласно этому преданию, являются посланцы различных вер: магометанской, иудейской и христианской, греческой, римской. Каждый из послов расхваливает достоинства своей религии. Однако Владимир остроумно отвергает и мусульманскую, и иудейскую веры, поскольку они не соответствуют национальным традициям Русской земли. Римская вера была отвергнута "отцами и дедами" (имелась в виду миссия епископа Адальберта в середине X в.). Остановив свой выбор на православии, Владимир, прежде чем принять эту религию, отправляет своих посланцев испытать, какая же вера лучше. Посланные воочию убеждаются в красоте, пышности и великолепии церковного греческого христианского богослужения, они доказывают князю преимущества православной веры перед другими религиями, и Владимир окончательно останавливает свой выбор на христианстве.
Д. С. Лихачев предполагает, что "Сказания о первоначальном распространении христианства на Руси" были записаны книжниками киевской митрополии при Софийском соборе. Однако Константинополь не был согласен с назначением на митрополичью кафедру русского Илариона (в 1055 г. на его месте видим грека Ефрема), и "Сказания", носившие антивизантийский характер, не получили здесь дальнейшего развития.
Центром русского просвещения, оппозиционно настроенным против митрополита-грека, с середины XI в. становится Киевско-Печесрский монастырь. Здесь в 70-х годах XI в. происходит оформление русской летописи. Составитель летописи - Никон Великий. Он использовал "Сказания о распространении христианства", дополнил их рядом устных исторических преданий, рассказами очевидцев, в частности воеводы Вышаты, историческими сведениями о событиях современности и недавних дней.
Очевидно, под влиянием пасхальных хронологических таблиц - пасхалий, составлявшихся в монастыре, Никон придал своему повествованию форму погодных записей - по "летам". В созданный около 1073 г. "Первый Киево-Печерский свод" он включил большое количество сказаний о первых русских князьях, их походах на Царьград. Им же, по-видимому, была использована и Корсунская легенда о походе Владимира Святославича в 988 г. на греческий город Корсунь (Херсонес Таврический), после взятия которого Владимир потребовал себе в жены сестру греческих императоров Анну.
Благодаря этому свод 1073 г. приобрел резко выраженную антивизантийскую направленность. Никон придал летописи политическую остроту, историческую широту и небывалый патриотический пафос, что и сделало это произведение выдающимся памятником древнерусской культуры. Свод осуждал княжеские усобицы, подчеркивая роль народа в защите Русской земли от внешних врагов.
Таким образом, "Первый Киево-Печерский свод" явился выразителем идей и настроений средних и даже низших слоев феодального общества. Отныне публицистичность, принципиальность, широта исторического подхода, патриотический пафос становятся отличительными чертами русской летописи.
После смерти Никона работа над летописью продолжалась в Киево-Печерском монастыре. Здесь велись погодные записи о текущих событиях, которые затем были обработаны и объединены неизвестным автором во "Второй Киево-Печерский свод" 1095 г.
"Второй Киево-Печерский свод" продолжал пропаганду идей единства Русской земли, начатую Никоном. В этом своде также резко осуждаются княжеские крамолы, а князья призываются к единству для совместной борьбы со степными кочевниками-половцами. Составитель свода ставит четкие публицистические задачи: примером прежних князей исправить нынешних.
Автор "Второго Киево-Печерского свода" широко привлекает рассказы очевидцев событий, в частности рассказы сына Вышаты Яна. Составитель свода использует также греческие исторические хроники, в частности хронику Георгия Амартола, данные которой позволяют ему включить историю Руси в общую цепь событий мировой истории.
"Повесть временных лет" создается в период, когда Киевская Русь испытывает на себе наиболее сильные удары степных кочевников-половцев, когда перед древнерусским обществом встал вопрос о сплочении всех сил для борьбы со степью, с "полем" за землю Русскую, которую "потом и кровью стяжали отцы и деды".
В 1098 г. великий киевский князь Святополк Изяславич примиряется с Киево-Печерским монастырем: он начинает поддерживать антивизантийское направление деятельности монастыря и, понимая политическое значение летописи, стремится взять под контроль ведение летописания. В интересах Святополка на основе "Второго Киево-Печерского свода" и создается монахом Нестором в 1113 г. первая редакция "Повести временных лет". Сохранив идейную направленность предшествующего свода, Нестор стремится всем ходом исторического повествования убедить русских князей покончить с братоубийственными войнами и на первый план выдвигает идею княжеского братолюбия. Под пером Нестора летопись приобретает государственный официальный характер.
Святополк Изяславич, поставленный Нестором в центр повествования о событиях 1093-1111 гг., не имел большой популярности в обществе того времени. После его смерти великим киевским князем стал в 1113 г. Владимир Мономах - "добрый страдалец за русскую землю". Понимая политическое и юридическое значение летописи, он передал ее ведение в Выдубицкий монастырь, игумен которого Сильвестр по поручению великого князя в 1116 г. составляет вторую редакцию "Повести временных лет". В ней на первый план выдвинута фигура Мономаха, подчеркиваются его заслуги в борьбе с половцами и в установлении мира между князьями.
В 1118 г. в том же Выдубицком монастыре неизвестным автором была создана третья редакция "Повести временных лет". В эту редакцию включено "Поучение" Владимира Мономаха, изложение доведено до 1117 г.
Гипотеза Б.А. Рыбакова. Иную концепцию развития начального этапа русского летописания развивает Б. А. Рыбаков. Анализируя текст начальной русской летописи, исследователь предполагает, что погодные краткие записи стали вестись в Киеве с появлением христианского духовенства (с 867 г.) при княжении Аскольда. В конце X столетия, в 996-997 гг., был создан "Первый Киевский летописный свод", обобщивший разнородный материал кратких погодных записей, устных сказаний. Свод этот был создан при Десятинной церкви, в его составлении приняли участие Анастас Корсунянин - настоятель собора, епископ Белгородский и дядя Владимира, Добрыня. Свод давал первое историческое обобщение полуторавековой жизни Киевской Руси и завершался прославлением Владимира. В это же время, предполагает Б. А. Рыбаков, оформляется и Владимиров цикл былин, в котором давалась народная оценка событий и лиц, тогда как летопись знакомила с придворными оценками, с книжной культурой, дружинным эпосом, а также с народными сказаниями.
Разделяя точку зрения А. А. Шахматова о существовании Новгородского свода 1050 г., Б. А. Рыбаков считает, что летопись была создана при деятельном участии новгородского посадника Остромира и эту "Остромирову летопись" следует датировать 1054-1060 гг. Она была направлена против Ярослава Мудрого и варягов-наемников. В ней подчеркивалась героическая история Новгорода и прославлялась деятельность Владимира Святославича и Владимира Ярославича, князя новгородского. Летопись носила чисто светский характер и выражала интересы новгородского боярства.
Б. А. Рыбаков предлагает интересную реконструкцию текста "Повести временных лет" Нестора. Выдвигает гипотезу об активном личном участии Владимира Мономаха в создании второй, Сильвестровой, редакции. Третью редакцию "Повести временных лет" исследователь связывает с деятельностью сына Мономаха Мстислава Владимировича, который пытался противопоставить Киеву Новгород.
Таким образом, вопрос о начальном этапе русского летописания, о составе, источниках "Повести временных лет" является весьма сложным и далеко не решенным.
Несомненно, однако, то, что "Повесть временных лет" - результат большой сводческой редакторской работы, обобщивший труд нескольких поколений летописцев.
Основные идеи начальной летописи. Уже в самом названии - "Се повести времянъных лет, откуду есть пошла Руская земля, кто в Киеве нача первее княжити, и откуду Руская земля стала есть" - содержится указание на идейно-тематическое содержание летописи. Русская земля, ее исторические судьбы, начиная с момента возникновения и кончая первым десятилетием XII в., стоят в центре внимания летописи. Высокая патриотическая идея могущества Русской земли, ее политической самостоятельности, религиозной независимости от Византии постоянно руководит летописцем, когда он вносит в свой труд "преданья старины глубокой" и подлинно исторические события недавнего прошлого.
Летописные сказания необычайно злободневны, публицистичны, исполнены резкого осуждения княжеских усобиц и распрей, ослабляющих могущество Русской земли, призыва блюсти Русскую землю, не посрамить земли Русской в борьбе с внешними врагами, в первую очередь со степными кочевниками - печенегами, а затем половцами.
Тема родины является определяющей, ведущей в летописи. Интересы родины диктуют летописцу ту или иную оценку поступков князя, являются мерилом его славы и величия. Живое чувство Русской земли, родины и народа сообщает русскому летописцу ту небывалую широту политического горизонта, которая несвойственна западноевропейским историческим хроникам.
Вдумаемся в заглавие, данное начальной русской летописи,- "Повести времяньных лет". Ведь слово "повести" означает здесь рассказ, т. е. то, что поведано о прошлом Русской земли с целью установить, "откуду есть пошла Руская земля, кто в Киеве нача первее княжити...". Если работа по составлению летописи началась в 30-40-е годы XI в., то ее создатели выступили не только в качестве историков-исследователей, но и в качестве первых историков-писателей. Им прежде всего нужно было добыть материал о прошедших годах, отобрать его, литературно обработать и систематизировать - "положить по ряду".
Таким материалом, видимо, являлись устные исторические предания, легенды, эпические героические песни, затем письменные источники: греческие, болгарские хроники, агиографическая литература.
Из письменных источников летописцы заимствуют историческую христианско-схоластическую концепцию, связывая историю Русской земли с общим ходом развития "мировой" истории. "Повесть временных лет" открывается библейской легендой о разделении земли после потопа между сыновьями Ноя - Симом, Хамом и Яфетом. Славяне являются потомками Яфета, т. е. они, как и греки, принадлежат к единой семье европейских народов.
Летописцев интересуют судьбы славянских народов в далеком прошлом (V-VI вв.), расселение восточных славянских племен в бассейне Днепра и его притоков, Волхова и озера Ильмень, Волго-Окского междуречья, Южного Буга и Днестра; нравы и обычаи этих племен, из которых по развитию культуры выделяется племя полян. Летописцы ищут объяснения происхождения названий как отдельных племен, так и городов, обращаясь к устной легенде. Они соотносят события, происшедшие в Русской земле, с событиями греческими и болгарскими. Ими осознается великая культурная миссия первых славянских "учителей" и "философов" Кирилла и Мефодия, и в летопись заносятся сведения о деятельности этих великих братьев, связанной с изобретением азбуки "словенской".
Наконец, им удается "установить" первую дату-6360 г.- (852 г.) -упоминания в "летописаньи гречьстемь" "Руской земли". Эта дата дает возможность положить "числа по ряду", т. е. приступить к последовательному хронологическому изложению, точнее, расположению материала "по летам" - по годам. А когда они не могут прикрепить к той или иной дате никакого события, то ограничиваются простой фиксацией самой даты (например: "в лето 6368", "в лето 6369"). Хронологический принцип давал широкие возможности свободного обращения с материалом, позволял вносить в летопись новые сказания и повести, исключать старые, если они не соответствовали политическим интересам времени и автора, дополнять летопись записями о событиях последних лет, современником которых был ее составитель.
В результате применения погодного хронологического принципа изложения материала постепенно складывалось представление об истории как о непрерывной последовательной цепи событий. Хронологическая связь подкреплялась генеалогической, родовой связью, преемственностью правителей Русской земли, начиная от Рюрика и кончая (в "Повести временных лет") Владимиром Мономахом.
В то же время этот принцип придавал летописи фрагментарность, на что обратил внимание И. П. Еремин.
Жанры, вошедшие в состав летописи. Хронологический принцип изложения позволял летописцам включать в летопись разнородный по своему характеру и жанровым особенностям материал. Простейшей повествовательной единицей летописи является лаконичная погодная запись, ограничивающаяся лишь констатацией факта. Однако само внесение в летопись той или иной информации свидетельствует о ее значительности с точки зрения средневекового писателя. Например: "В лето 6377 (869). Крещена быстъ вся земля Болъгарьская..."; "В лето 6419 (911). Явися звезда велика на западе копейным образом..."; "В лето 6481 (973). Нача княжити Ярополк" и т. п. Обращает на себя внимание структура этих записей: на первое место, как правило, ставится глагол, который подчеркивает значимость действия.
В летописи представлен также тип развернутой записи, фиксирующей не только "деяния" князя, но и их результаты. Например: "В лето 6391. Поча Олег воевати деревляны, и примучив а, имаше на них дань, по черне куне" и т. п.
И краткая погодная запись, и более развернутая - документальны. В них нет никаких украшающих речь тропов. Запись проста, ясна и лаконична, что придает ей особую значимость, выразительность и даже величавость.
В центре внимания летописца - событие - "што ся здея в лета сил". За ними следуют известия о смерти князей. Реже фиксируется рождение детей, их вступление в брак. Потом информация о строительной деятельности князей. Наконец, сообщения о церковных делах, занимающие весьма скромное место. Правда, летописец описывает перенесение мощей Бориса и Глеба, помещает сказания о начале Печерского монастыря, смерти Феодосия Печерского и рассказы о достопамятных черноризцах печерских. Это вполне объяснимо политическим значением культа первых русских святых Бориса и Глеба и ролью Киево-Печерского монастыря в формировании начальной летописи.
Важную группу летописных известий составляют сведения о небесных знамениях - затмениях солнца, луны, землетрясениях, эпидемиях и т. п. Летописец усматривает связь между необычными явлениями природы и жизнью людей, историческими событиями. Исторический опыт, связанный со свидетельствами хроники Георгия Амартола, приводит летописца к выводу: "Знаменья бо в небеси, или звездах, ли солнци, ли птицами, ли етеромь чим, не на благо бываютъ; но знаменья сиця на зло бываютъ, ли проявленъе рати, ли гладу, ли смерть проявляютъ".
Разнообразные по своей тематике известия могут объединяться в пределах одной летописной статьи. Материал, входящий в состав "Повести временных лет", позволяет выделить историческую легенду, топонимическое предание, историческое предание (связанное с дружинным героическим эпосом), агиографическую легенду, а также историческое сказание и историческую повесть.
Связь летописи с фольклором. О событиях далекого прошлого летописец черпает материал в сокровищнице народной памяти.
Обращение к топонимической легенде продиктовано стремлением летописца выяснить происхождение названий славянских племен, отдельных городов и самого слова "Русь". Так, происхождение славянских племен радимичей и вятичей связывается с легендарными выходцами из ляхов - братьями Радимом и Вятко. Эта легенда возникла у славян, очевидно, в период разложения родового строя, когда обособившаяся родовая старшина для обоснования своего права на политическое господство над остальными членами рода создает легенду о якобы иноземном своем происхождении. К этому летописному сказанию близка легенда о призвании князей, помещенная в летописи под 6370 (862) г. По приглашению новгородцев из-за моря "княжить и володеть" Русской землей приходят три брата-варяга с родами своими: Рюрик, Синеус, Трувор.
Фольклорность легенды подтверждает наличие эпического числа три -три брата. Сказание имеет чисто новгородское, местное происхождение, отражая практику взаимоотношений феодальной городской республики с князьями. В жизни Новгорода были нередки случаи "призвания" князя, который выполнял функции военачальника. Внесенная в русскую летопись, эта местная легенда приобретала определенный политический смысл. Она обосновывала права князей на политическую власть над всей Русью. Устанавливался единый предок киевских князей - полулегендарный Рюрик, что позволяло летописцу рассматривать историю Русской земли как историю князей Рюрикова дома. Легенда о призвании князей подчеркивала политическую независимость княжеской власти от Византийской империи.
Таким образом, легенда о призвании князей служила важным аргументом для доказательства суверенности Киевского государства, а отнюдь не свидетельствовала о неспособности славян самостоятельно устроить свое государство, без помощи европейцев, как это пытались доказать некоторые ученые.
Типичной топонимической легендой является также сказание об основании Киева тремя братьями - Кием, Щеком, Хоривом и сестрой их Лыбедью. На устный источник внесенного в летопись материала указывает сам летописец: "Ини же, не сведуще, рекоша, якой Кий есть перевозник был". Версию народного предания о Кие-перевозчике летописец с негодованием отвергает. Он категорически заявляет, что Кий был князем, совершал успешные походы на Царьград, где принял великую честь от греческого царя и основал на Дунае городище Киевец.
Отзвуками обрядовой поэзии времен родового строя наполнены летописные известия о славянских племенах, их обычаях, свадебных и похоронных обрядах.
Приемами устного народного эпоса охарактеризованы в летописи первые русские князья: Олег, Игорь, Ольга, Святослав.
Олег - это прежде всего мужественный и мудрый воин. Благодаря воинской смекалке он одерживает победу над греками, поставив свои корабли на колеса и пустив их под парусами по земле. Он ловко распутывает все хитросплетения своих врагов-греков и заключает выгодный для Руси мирный договор с Византией. В знак одержанной победы Олег прибивает свой щит на вратах Царьграда к вящему позору врагов и славе своей родины.
Удачливый князь-воин прозван в народе "вещим", т. е. волшебником (правда, при этом летописец-христианин не преминул подчеркнуть, что прозвище дали Олегу язычники, "людие погани и невеголоси"), но и ему не удается уйти от своей судьбы. Под 912г. летопись помещает поэтическое предание, связанное, очевидно, "с могилой Ольговой", которая "есть... и до сего дни". Это предание имеет законченный сюжет, который раскрывается в лаконичном драматическом повествовании. В нем ярко выражена мысль о силе судьбы, избежать которой никто из смертных, и даже "вещий" князь, не в силах.
В несколько ином плане изображен Игорь. Он также мужествен и смел, одерживает победу над греками в походе 944 г. Он заботлив и внимателен к нуждам своей дружины, но, кроме того, и жаден. Стремление собрать как можно больше дани с древлян становится причиной его гибели. Жадность Игоря осуждается летописцем народной пословицей, которую он вкладывает в уста древлян: "Аще ся въвадить волк в овце, то выносить все стадо, аще не убъють его..."
Жена Игоря Ольга - мудрая женщина, верная памяти своего мужа, отвергающая сватовство не только древлянского князя Мала, но и греческого императора. Она жестоко мстит убийцам своего мужа, но жестокость ее не осуждается летописцем. В описании четырех местей Ольги подчеркивается мудрость, твердость и непреклонность характера русской женщины. Д. С. Лихачев отмечает, что основу сказания составляют загадки, которые не могут разгадать незадачливые сваты-древляне. Загадки Ольги строятся на ассоциациях свадебного и похоронного обрядов: несли в лодках не только почетных гостей, но и покойников; предложение Ольги послам помыться в бане - не только знак высшего гостеприимства, но и символ похоронного обряда; направляясь к древлянам, Ольга идет творить тризну не только по мужу, но и по убитым ею древлянским послам. Недогадливые древляне понимают слова Ольги в их прямом значении, не подозревая о другом, скрытом смысле загадок мудрой женщины, и тем самым обрекают себя на гибель. Все описание мести Ольги строится на ярком лаконичном и сценическом диалоге княгини с посланцами "Деревьской земли".
Героикой дружинного эпоса овеян образ сурового, простого и сильного, мужественного и прямодушного воина Святослава. Ему чужды коварство, лесть, хитрость - качества, присущие его врагам-грекам, которые, как отмечает летописец, "лстивы и до сего дни". С малой дружиной он одерживает победу над превосходящими силами врага: краткой, мужественной речью воодушевляет своих воинов на борьбу: "...да не посрамим земле Руские, но ляжем костьми, мертвый бо срама не имам".
Святослав презирает богатство, он ценит только дружину, оружие, с помощью которых можно добыть любое богатство. Точна и выразительна характеристика этого князя в летописи: "...легъко ходя, аки пардус, войны многи творяше. Ходя, воз по себе не возяше, ни котьла, ни мяс варя, но потонку изрезав конину ли, зверину ли или говядину на углех испек ядяше, ни шатра имяше, но подъклад послав и седло в головах; такоже и прочий вой его ecu бяху".
Святослав живет интересами своей дружины. Он даже идет наперекор увещеваниям матери - Ольги и отказывается принять христианство, боясь насмешки дружины. Но постоянное стремление
Святослава к завоевательным войнам, пренебрежение интересами Киева, его попытка перенести столицу Руси на Дунай вызывает осуждение летописца. Это осуждение он высказывает устами "киян": "... ты, княже, чюжея земли ищеши и блюдеши, а своея ся охабив (оставил), малы (едва) бо нас не взята печенези..."
Прямодушный князь-воин гибнет в неравном бою с печенегами у днепровских порогов. Убивший Святослава князь печенежский Куря, "взяша главу его, и во лбе (черепе) его съделаша чашю, оковавше лоб его, и пъяху из него". Летописец не морализует по поводу этой смерти, но общая тенденция все же сказывается: гибель Святослава является закономерной, она следствие его ослушания матери, следствие его отказа принять крещение.
К народным сказаниям восходит летописное известие о женитьбе Владимира на полоцкой княжне Рогнеде, о его обильных и щедрых пирах, устраиваемых в Киеве,- Корсунская легенда. С одной стороны, перед нами предстает князь-язычник с его необузданными страстями, с другой - идеальный правитель-христианин, наделенный всеми добродетелями: кротостью, смирением, любовью к нищим, к иноческому и монашескому чину и т. п. Контрастным сопоставлением князя-язычника с князем-христианином летописец стремился доказать превосходство новой христианской морали над языческой.
Княжение Владимира было овеяно героикой народных сказаний уже в конце X - начале XI в.
Духом народного героического эпоса проникнуто сказание о победе русского юноши Кожемяки над печенежским исполином. Как и в народном эпосе, сказание подчеркивает превосходство человека мирного труда, простого ремесленника над профессионалом-воином - печенежским богатырем. Образы сказания строятся по принципу контрастного сопоставления и широкого обобщения. Русский юноша на первый взгляд - обыкновенный, ничем не примечательный человек, но в нем воплощена та огромная, исполинская сила, которой обладает народ русский, украшающий своим трудом землю и защищающий ее на поле брани от внешних врагов. Печенежский воин своими гигантскими размерами наводит ужас на окружающий. Хвастливому и заносчивому врагу противопоставляется скромный русский юноша, младший сын кожевника. Он совершает подвиг без кичливости и бахвальства. При этом сказание приурочивается к топонимической легенде о происхождении города Переяславля - "зоне перея славу отроко тъ", но это явный анахронизм, поскольку Переяславль уже не раз упоминался в летописи до этого события.
С народным сказочным эпосом связано сказание о Белгородском киселе. В этом сказании прославляется ум, находчивость и смекалка русского человека.
И сказание о Кожемяке, и сказание о Белгородском киселе - законченные сюжетные повествования, строящиеся на противопоставлении внутренней силы труженик бахвальству страшного только на вид врага, мудрости старца-легковерию печенегов. Кульминацией сюжетов обоих сказаний являются поединки: в первом - единоборство физическое, во втором-единоборство ума и находчивости с легковерием, глупостью. Сюжет сказания о Кожемяке типологически близок сюжетам героических народных былин, а сказания о Белгородском киселе -народным сказкам.
Фольклорная основа явно ощущается и в церковной легенде о посещении Русской земли апостолом Андреем. Помещая эту легенду, летописец стремился "исторически" обосновать религиозную независимость Руси от Византии. Легенда утверждала, что Русская земля получила христианство не от греков, а якобы самим учеником Христа - апостолом Андреем, некогда прошедшим путь "из варяг в греки" по Днепру и Волхову,- было предречено христианство на Русской земле. Церковная легенда о том, как Андрей благословил киевские горы, сочетается с народным сказанием о посещении Андреем Новгородской земли. Это сказание носит бытовой характер и связано с обычаем жителей славянского севера париться в жарко натопленных деревянных банях.
Составители летописных сводов XVI в. обратили внимание на несоответствие первой части рассказа о посещении апостолом Андреем Киева со второй, они заменили бытовой рассказ благочестивым преданием, согласно которому Андрей в Новгородской земле оставляет свой крест.
Таким образом, большая часть летописных сказаний, посвященных событиям IX - конца X столетий, связана с устным народным творчеством, его эпическими жанрами.
Исторические повести и сказания в составе летописи. По мере того как летописец переходит от повествования о событиях давно минувших лет к недавнему прошлому, материал летописи становится все более исторически точным, строго фактическим и официальным.
Внимание летописца привлекают только исторические личности, находящиеся на вершине феодальной иерархической лестницы. В изображении их деяний он следует принципам средневекового историзма. Согласно этим принципам в летопись должны заноситься события лишь сугубо официальные, имеющие историческое значение для государства, а частная жизнь человека, окружающая его бытовая обстановка не интересует летописца.
В летописи вырабатывается идеал князя-правителя. Этот идеал неотделим от общих патриотических идей летописи. Идеальный правитель выступает живым воплощением любви к родной земле, ее чести и славы, олицетворением ее могущества и достоинства. Все его поступки, вся его деятельность определяются благом родины и народа. Поэтому князь в представлении летописца не может принадлежать самому себе. Он в первую очередь исторический деятель, который появляется всегда в официальной обстановке, наделенный всеми атрибутами княжеской власти. Д. С. Лихачев отмечает, что князь в летописи всегда официален, он как бы обращен к зрителю и представлен в наиболее значительных своих поступках. Добродетели князя являются своего рода парадной одеждой; при этом одни добродетели чисто механически присоединяются к другим, благодаря чему стало возможно совмещение идеалов светских и церковных. Бесстрашие, храбрость, воинская доблесть сочетаются со смирением, кротостью и прочими христианскими добродетелями.
Если деятельность князя направлена на благо родины, летописец всячески прославляет его, наделяя всеми качествами наперед заданного идеала. Если деятельность князя идет вразрез с интересами государства, летописец не жалеет черной краски и приписывает отрицательному персонажу все смертные грехи: гордость, зависть, честолюбие, корыстолюбие и т. п.
Принципы средневекового историзма получают яркое воплощение в повестях "О убьеньи Борисове" (1015 г.) и об ослеплении Василька Теребовльского, которые могут быть отнесены к жанру исторических повестей о княжеских преступлениях. Однако по своему стилю это совершенно разные произведения. Повесть "О убьеньи Борисове" излагает исторические факты убийства Святополком братьев Бориса и Глеба с широким использованием элементов агиографического стиля. Она строится на контрасте идеальных князей-мучеников и идеального злодея- "окаянного" Святополка. Завершается повесть похвал ой, прославляющей "христолюбивых страстотерпцев", "сияющих светильников", "светлых звезд" -"заступников Русской земли". В ее концовке звучит молитвенный призыв к мученикам покорить поганых "под нозе князем нашим" и избавить их "от усобныя рати", дабы пребывали они в мире и единении. Так в агиографической форме выражена общая для всей летописи патриотическая идея. В то же время повесть "О убьеньи Борисове" интересна рядом "документальных" подробностей, "реалистических деталей".
Написанная попом Василием и помещенная в летописи под 1097 г., "Повесть об ослеплении Василька Теребовльского" выдержана в стиле историко-документальном.
Экспозицией сюжета является сообщение о съезде князей "на устроенье мира" в Любече. Единодушие собравшихся выражено речью, сказанной якобы всеми князьями: "Почто губим Русъскую землю, сами на ся котору деюще? А половци зешю нашю несуть розно, и ради суть, оже межю нами рати. Да ноне отселе имемся в едино сердце, и блюдем 1"ускые земли; кождо да держить отчину свою..."
Устанавливаемый новый феодальный порядок взаимоотношений ("кождо да держит отчину свою") князья скрепляют клятвой - крестоцслованием. Они дают друг другу слово не допускать распрей, усобиц. Такое решение встречает одобрение народа: "и ради быша людъе ecu". Однако достигнутое единодушие оказалось временным и непрочным, и повесть на конкретном, страшном примере ослепления Василька двоюродными братьями показывает, к чему приводит нарушение князьями взятых на себя обязательств.
Мотивировка завязки сюжета повести традиционная, провиденциалистская: опечаленный "любовью", согласием князей дьявол "влезе" в сердце "некоторым мужем"; они говорят "лживые словеса" Давиду о том, что Владимир Мономах якобы сговорился с Васильком о совместных действиях против него и Святополка Киевского. Что это за "некоторые мужи" - неизвестно, что в действительности побудило их сообщить свои "лживые словеса" Давыду - неясно. Затем провиденциалистская мотивировка перерастает в чисто психологическую. Поверив "мужам", Давид сеет сомнения в душе Святополка. Последний, "смятеся умом", колеблется, ему не верится в справедливость этих утверждений. В конце концов Святополк соглашается с Давидом в необходимости захватить Василька.
Когда Василько пришел в Выдубицкий монастырь, Святополк посылает к нему гонца с просьбой задержаться в Киеве до своих именин. Василько отказывается, опасаясь, что в его отсутствие дома не случилось бы "рати". Явившийся затем к Васильку посланный Давыда уже требует, чтобы Василько остался и тем самым не "ослушался брата старейшего". Таким образом, Давыд ставит вопрос о необходимости соблюдения Васильком своего долга вассала по отношению к сюзерену. Заметим, что Борис и Глеб гибнут во имя соблюдения этого долга. Отказ Василька только убеждает Давыда, что Василько намерен захватить города Святополка. Давыд настаивает, чтобы Святополк немедленно отдал Василька ему. Вновь идет посланец Святополка к Васильку и от имени великого киевского князя просит его прийти, поздороваться и посидеть с Давыдом. Василько садится на коня и с малой дружиной едет к Святополку. Характерно, что здесь рассказ строится по законам эпического сюжета: Василько принимает решение поехать к брату только после третьего приглашения.
О коварном замысле брата Василька предупреждает дружинник, но князь не может поверить: "Како мя хотять яти?оногды (когда недавно) целовали крест". Василько не допускает мысли о возможности нарушения князьями взятых на себя обязательств.
Драматичен и глубоко психологичен рассказ о встрече Василька со Святополком и Давыдом. Введя гостя в горницу, Святополк еще пытается завязать с ним разговор, просит его остаться до Святок, а "Давыд же седяше, акы нем", и эта деталь ярко характеризует психологическое состояние последнего. Натянутой атмосферы не выдерживает Святополк и уходит из горницы под предлогом необходимости распорядиться о завтраке для гостя. Василько остается наедине с Давыдом, он пытается начать с ним разговор, "и не бе в Давыде гласа, ни послушанья". И только теперь Василько начинает прозревать: он "ужаслъся", поняв обман. А Давыд, немного посидев, уходит. Василька же, оковав в "двою оковы", запирают в горнице, приставив на ночь сторожей.
Подчеркивая нерешительность, колебания Святополка, автор рассказывает о том, что тот не решается сам принять окончательного решения о судьбе Василька. Святополк созывает наутро "бояр и кыян" и излагает им те обвинения, которые предъявляет Васильку Давыд. Но и бояре, и "кыяне" не берут на себя моральной ответственности. Вынужденный сам принимать решение, Святополк колеблется. Игумены умоляют его отпустить Василька, а Давыд "поущает" на ослепление. Святополк уже хочет отпустить Василька, но чашу весов перевешивают слова Давыда: "...аще ли сего (ослепления.- В. К.) не створишъ, а пустишь и, то ни тобе княжити, ни мне". Решение князем принято, и Василька перевозят на повозке из Киева в Белгород, где сажают в "истобку молу". Развитие сюжета достигает своей кульминации, и она дана с большим художественным мастерством. Увидев точащего нож торчина, Василько догадывается о своей участи: его хотят ослепить, и он "възпи к богу плачем великим и стенаньем". Следует обратить внимание, что автор повести - поп Василий - не пошел по пути агиографической литературы. Согласно житийному канону здесь должно было поместить пространный монолог героя, его молитву, плач.
Точно, динамично автор передает кульминационную сцену. Основная художественная функция в этой сцене принадлежит глаголу - своеобразному "речевому жесту", как понимал его А. Н. Толстой. Входят конюхи Святополка и Давыда - Сновид Изечевич и Дмитр:
и почаста простирати ковер,
и простерша, яста Василка
и хотяща и поврещи;
и боряшется с нима крепко,
и не можаста его поврещи.
И се влезше друзии повергоша и,
и связаша и,
и снемше доску с печи,
и възложиша на перси его.
И седоста обаполы Сновид Изеневичь и Дмитр,
и не можаста удержати.
И приступиста ина два,
и сняста другую деку с пени,
и седоста,
и удавиша и рамяно, яко переем троскотати.
Вся сцена выдержана в четком ритмическом строе, который создается анафорическим повтором соединительного союза "и", передающим временную последовательность действия, а также глагольными рифмами.
Перед нами неторопливый рассказ о событии, в нем нет никакой внешней эмоциональной оценки. Но перед читателем - слушателем с большой конкретностью предстает полная драматизма сцена: "И приступи торчин... держа ножь и хотя ударити в око, и грешися ока и перераза ему лице, и есть рана та на Василке и ныне. И посем удари и в око, и изя зеницю, и посем в другое око, и изя другую зеницю. И том часе бысть яко и мертв".
Потерявшего сознание, бездыханного Василька везут на повозке, и у Здвиженья моста, на торгу, сняв с него окровавленную рубашку, отдают ее помыть попадье. Теперь внешне бесстрастный сказ уступает место лирическому эпизоду. Попадья глубоко сострадает несчастному, она оплакивает его, как мертвеца. И услышав плач сердобольной женщины, Василько приходит в сознание. "И пощюпа сорочкы и рече: "Чему есте сняли с мене? да бых в той сорочке кроваве смерть принял и стал пред богомь".
Давыд осуществил свое намерение. Он привозит Василька во Владимир Волынский, "акы некак улов уловив". И в этом сравнении звучит моральное осуждение преступления, совершенного братом.
В отличие от агиографического повествования Василий не морализует, не приводит библейских сопоставлений и цитат. От повествования о судьбе Василька он переходит к рассказу о том, как это преступление отражается на судьбах Русской земли, и теперь главное место отводится фигуре Владимира Мономаха. Именно в нем воплощается идеал князя. Гиперболически передает Василий чувства князя, узнавшего об ослеплении Василька. Мономах "...ужасеся и всплакав и рече: "Сего не бывало есть в Русьскей земьли ни при дедех наших, ни при отцих наших, сякого зла". Он стремится мирно "поправить" это зло, чтобы не допустить гибели земли Русской. Молят Владимира и "кияне" "творить мир" и "блюсти землю Русскую", и расплакавшийся Владимир говорит: "Поистине отци наши и деди наши зблюли землю Русьскую, а мы хочем погубити". Характеристика Мономаха приобретает агиографический характер. Подчеркивается его послушание отцу и своей мачехе, а также почитание им митрополита, сана святительского и особенно "чернеческого". Обнаружив, что он отступил от основной темы, рассказчик спешит "на свое" возвратиться и сообщает о мире со Святополком, который обязывался пойти на Давыда Игоревича и либо захватить его, либо изгнать. Затем автор рассказывает о неудавшейся попытке Давыда занять Василькову волость и возвращении Василька в Теребовль. Характерно, что в переговорах с братом Василька Воло-дарем Давыд пытается свалить свою вину в ослеплении Василька на Святополка.
Мир затем нарушают Василько и Володарь. Они берут копьем город Всеволож, поджигают его и "створи мщенье на людех неповинных, и пролья кровь неповинну". Здесь автор явно осуждает Василька. Это осуждение усиливается, когда Василько расправляется с Лазарем и Туряком (подговоривших Давыда на злодеяние); "Се же 2-е мщенье створи, его же не бяше лепо створити, да бы бог отместник был".
Выполняя условия мирного договора, Святополк Изяславич изгоняет Давыда, но потом, преступив крестное целование, идет на Василька и Володдря. Теперь Василько вновь выступает в ореоле героя. Он становится во главе войска, "възвысив крест". При этом и над воинами "мнози человеци благоверный видеша крест".
Таким образом, повесть не идеализирует Василька. Он не только жертва наветов, жестокости и коварства Давыда Игоревича, легковерия Святополка, но и сам обнаруживает не меньшую жестокость как по отношению к виновникам зла, так и по отношению к ни в чем не повинным людям. Нет идеализации и в изображении великого князя киевского Святополка, нерешительного, доверчивого, слабовольного. Повесть позволяет современному читателю представить характеры живых людей с их человеческими слабостями и достоинствами.
Повесть написана средневековым писателем, который строит ее на противопоставлении двух символических образов "креста" и "ножа", лейтмотивом проходящих через все повествование.
"Крест" - "крестное целование" - символ княжеского братолюбия и единомыслия, скрепленных клятвой. "Да аще кто отселе на кого будеть, то на того будем ecu и крест честный", - этой клятвой скрепляют князья свой договор в Любече. Василько не верит в коварство братьев: "Како мя хотятъ яти? оногды целовали крест, рекуще: аще кто на кого будеть, то на того будеть крест и мы ecu". Владимир Мономах заключает мир со Святополком "целоваше крест межю собою". Василько, отмщая свою обиду Давыду, поднимает "крест честный".
"Нож" в повести об ослеплении Василька-не только оружие конкретного преступления - ослепления Василька, но и символ княжеских распрей, усобиц. "...Оже ввержен в ны нож!"- восклицает Мономах, узнав о страшном злодеянии. Затем эти слова повторяют послы, направленные к Святополку: "Что се зло створил ecu в Русьстей земли и ввергл ecu ножь в ны?"
Таким образом, "Повесть об ослеплении Василька Теребовльского" резко осуждает нарушение князьями своих договорных обязательств, приводящее к страшным кровавым преступлениям, приносящее зло всей Русской земле.
Описания событий, связанных с военными походами князей, приобретает характер исторического документального сказания, свидетельствующего о формировании жанра воинской повести. Элементы этого жанра присутствуют в сказании о мести Ярослава Окаянному Святополку 1015-1016 гг. Завязкой сюжета является весть Ярославу из Киева от сестры Предславы о смерти отца и гибели Бориса; Ярослав начинает готовиться к походу, собирает войска и идет на Святополка. В свою очередь Святополк, "пристрой бе-щисла вой, Руси и печенег", идет навстречу к Любечу. Противные стороны останавливаются у водной преграды - на берегах Днепра. Три месяца стоят они друг против друга, не решаясь напасть. И только насмешки и укоры, бросаемые воеводой Святополка в адрес Ярослава и новгородцев, вынуждают последних на решительные действия:"...аще кто не поидеть с нами, сами потнем его". На рассвете Ярослав со своими войсками переправляется через Днепр, и, оттолкнув ладьи, воины устремляются в бой. Описание битвы-кульминация сюжета: "...и сступишася на месте. Бысть сеча зла, и не бе лзе озером печенегом помагати, и притиснуша Святополка с дружиною ко озеру, и въступивша на лед и обломися с ним лед, и одалати нача Ярослав, видев же Святополк и побеже, и одоле Ярослав". При помощи стилистической формулы "быстъ сеча зла" дана оценка битвы. Победа Ярослава и бегство Святополка - развязка сюжета.
Таким образом, в данном летописном сказании уже наличествуют основные сюжетно-композиционные элементы воинской повести: сбор войск, выступление в поход, подготовка к бою, бой и развязка его.
Аналогично построены сказания о битве Ярослава со Святополком и польским королем Болеславом в 1018-1019 гг., о междоусобной борьбе Ярослава с Мстиславом в 1024 г. Здесь следует отметить появление ряда новых стилистических формул: враг приходит "в силе тяжце", поле боя "покрыша множество вой"; битва происходит на рассвете "въсходящую солнцю", подчеркнута ее грандиозность "быстъ сеча зла, яка же не была в Руси", воины "за рукы емлюче сечахуся", "яко по удольем крови тещи".
Символический образ битвы-грозы намечен в описании сражения у Листвена между войсками Ярослава и Мстислава в 1024 г.: "Бывши нощи, быстъ тма, молонъя, и гром, и дождь... И быстъ сеча силна, яко посветяше молонъя, блещашеться оружье, и бе гроза велика и сеча силна и страшна".
Образ битвы-грома использован в сказании 1111 г. о коалиционном походе русских князей на половцев, здесь же вражеские войска сравниваются с лесом: "выступиша аки борове".
В описание сражения вводится мотив помощи небесных сил (ангелов) русским войскам, что свидетельствует, по мнению летописца, об особом расположении неба к благочестивым князьям.
Все это позволяет говорить о наличии в "Повести временных лет" основных компонентов жанра воинской повести.
В рамках исторического документального стиля выдержаны в летописи сообщения о небесных знамениях.
Элементы агиографического стиля. Составители "Повести временных лет" включали в нее и произведения агиографические: христианскую легенду, мученическое житие (сказание о двух варягах-мучениках), сказание об основании Киево-Печерского монастыря в 1051 г., о кончине его игумена Феодосия Печерского в 1074 г. и сказание о черноризцах печерских. В агиографическом стиле написаны помещенные в летописи сказания о перенесении мощей Бориса и Глеба (1072) и Феодосия Печерского (1091).
Летопись возвеличивала подвиги основателей Киево-Печерского монастыря, который был "поставлен" ни "от царей, и от бояр, и от богатства", а "слезами, и пощением, и бдением" Антония и Феодосия Печерских. Под 1074 г. вслед за рассказом о преставлении Феодосия летописец повествует о печерских черноризцах, которые "яко светила в Руси сьяють". Прославляя христианские добродетели печерских иноков, прорицателя Еремея, прозорливого Матвея и черноризца Исакия, летопись в то же время отмечает и отдельные теневые стороны монастырского быта. Попытка некоторых монахов покинуть печерскую обитель и вернуться "в мир" отмечена в рассказе об Еремее.
Рассказ о Матвее прозорливом в сказочной форме показывает, что длинная церковная служба утомляет многих монахов и они под разными предлогами покидают церковь и идут спать, а некоторые, как Михаил Тольбекович, даже убегают из монастыря.
Конечно, слабости монахов объясняют в летописи "кознями бесовскими". Так, Матвей прозорливый, находясь в церкви, видит беса, принявшего облик ляха. В поле своего плаща этот лях носит цветы репейника и бросает их в монахов. За монахом же Михаилом Тольбе-ковичем бес приезжает в монастырь на свинье, и, подстрекаемый бесом, монах после заутрени, перескочив через ограду, бежит из монастыря.
Так прославление святости черноризцев печерских сочетается с правдивым отражением некоторых сторон монастырского быта, что уже явно выходит за рамки агиографического стиля.
Одной из форм прославления князей в летописи являются посмертные некрологи, связанные с жанром надгробных похвальных слов. Первым таким похвальным словом является некролог княгине Ольге, помещенный под 969 г. Он начинается рядом метафорических сравнений, прославляющих первую княгиню-христианку. Метафорические образы "денницы", "зари", "света", "луны", "бисера" (жемчуга) заимствованы летописцем из византийской агиографической литературы, но использованы они для прославления русской княгини и подчеркивают значение для Руси ее подвига - принятия христианства.
Некролог-похвала Ольге стилистически близка похвале Владимиру, помещенной в летописи под 1015 г. Умерший князь получает оценочный эпитет "блаженный", т. е. праведный, и его подвиг приравнивается подвигу Константина Великого.
Некрологи Мстиславу и Ростиславу могут быть отнесены к жанру словесного портрета, в котором дана характеристика внешнего облика и нравственных качеств князей: "Бе же Мъстислав дебел теломъ, чермен лицем, великыма очима, храбор на рати, милостив, любяше дружину по велику, именья не щадяше, ни питья, ни еденья браняше".
Хождение игумена Даниила
Кириллин В. М.
Еще в языческой Руси возникли устно-поэтические предания о путешествиях к священным местам (капищам). Такие предания составляли значительный культурный пласт, отразившийся, в частности, в восходящих к домонгольскому времени былинах об Илье Муромце, Добрыне Никитиче, Идолище Поганом, Василии Буслаеве и многих др.; рудименты этой - дохристианской - культуры прослеживаются и в ряде духовных стихов ("Голубиная книга").
После крещения Руси старые традиции были переориентированы и сопряжены с новым обычаем поклонения библейским и христианским святыням. Соответственно, уже самые ранние оригинальные древнерусские литературные произведения содержат отзвуки этого обычая. Так, согласно "Повести временных лет" преподобный Антоний, будущий печерский подвижник, бывал в Царьграде еще в начале XI века и дважды посещал Афон. "Житие Феодосия Печерского" также сообщает о паломниках, в частности о поездке в Иерусалим игумена Киевского Димитриевского монастыря Варлаама. Интерес к древним святыням был вызван различными переводными книжно-письменными источниками - прежде всего, Библией, богослужебными и агиографическими текстами. Немалую роль в этом отношении играли апокрифы ("Хождение Агапия в Рай", "Беседа трех святителей" и др.) и историко-естественнонаучные сочинения ("Хроника Георгия Амартола", "Христианская топография" Козьмы Индикоплова" и др.). Содержавшиеся в них те или иные топографические реалии библейско-христианского мира воспринимались как знаки, или символы, христианского вероучения.
Очевидно, уже к концу XI века посещение святых мест стало обычным явлением в жизни русского общества. Разумеется, люди отправлялись в путешествие не только из стремления воочию увидеть все то, что было связано с жизнью библейских персонажей и историей христианства, но и по упованию на сугубо спасительную силу молитвы, совершенную в селении Благодати. Участников путешествий в Святую Землю на Руси называли по-разному: либо "паломниками" (на основании обычая приносить домой пальмовую ветвь), либо "каликами" (от латин. "caliga" - башмак), либо "сторониками". В Западной Европе для их обозначения использовался термин "пилигрим" (искаженное от латин. "peregrinus" путешествующий). Поодиночке в Святую Землю не ходили. Обычно собирались в группы - согласно духовным стихам, дружины или ватаги во главе с атаманом. Очень быстро стремление поклониться великим христианским святыням обрело на Руси настолько широкие масштабы, что уже в XII веке вызвало обеспокоенность Церкви.
Надо сказать, еще в лоне древней вселенской Церкви некоторые авторитетные отцы (например, Григорий Нисский, Августин Блаженный, Иероним Блаженный), квалифицируя паломничество как акт священнодействия особо посвященных, осуждали обычай без специальной подготовки - по-язычески - "искать Бога ногами". Древнерусская Церковь в этом отношении не была исключением. Хотя согласно церковному Уставу святого князя Владимира паломники как "митрополичьи люди" находились под церковным покровительством, то есть как бы приравнивались к духовенству, однако вместе с тем само духовенство стремилось к ограничению числа паломников, - прежде всего, из среды мирян и даже монахов. Поводом для такого ограничения служил очевидный факт, что традиция ходить по святым местам способствовала развитию праздности, воровства и тунеядства.
Кроме того, именно от "каликов перехожих" исходили и распространялись различные легендарно-апокрифические поверья, и именно они были разносчиками разного толка ересей. Показательно в этом отношении свидетельство древнерусского канонического сочинения XII века "Вопрошание Кирика, иже вопроси епископа Нифонта и инех". Беспокоясь о правильности своего решения, Кирик спрашивает Нифонта: "А иже се рех: Идуть в сторону, в Ерусалим, к святымь и другым, - аз бороню, не велю ити, сде велю ему добру быти. Ныне другое уставих (т. е. повторил свой запрет). Есть ли ми, владыко, в том грех?" И Нифонт соглашается: "Велми, рече, добро твориши! Да того деля идеть, абы, порозну ходяче, ясти и пити, а то ино зло. Борони, рече". Показательно также определение Константинопольского собора 1301 г. по поводу вопросов сарайского епископа Феогноста. В частности, он спрашивал, дозволительно ли христианам путешествовать в Иерусалим и справедливо ли он поступал, когда воспрещал своим чадам делать это, повелев им совершать добро и жить богобоязненно дома. И собор одобрил действия Феогноста, указав, что "многие путешественники нередко распространяют неверные слухи о чужих краях". Таким образом, Церковь, стремясь ограничить путешествия в Святую Землю, заботилась в первую очередь о духовно-религиозной, морально-нравственной чистоте верующих.
Отсюда, однако, не следует, что паломничество было абсолютно регулируемым процессом. Несмотря на ограничительное отношение Церкви, оно, конечно же, сохранялась, видимо, отражая реальные духовные запросы и устремления народа. Не случайно и повествования на паломническую тему - так называемые "хожения" - были на Руси излюбленной жанровой формой. Действительно, в продолжение XII-XVII веков в круг древнерусского чтения попало более 70 различных "хожений", и некоторые из них были весьма распространенными, судя по количеству списков. Итак, жанр "хожений" в Святую Землю, как видно, формировался под влиянием книжно-литературного и внекнижного факторов.
Если говорить о литературных образцах, то, разумеется, древнерусские авторы рассказов о собственных путешествиях ориентировались на восточно-христианскую литературную традицию, хотя литература путешествий по святым местам более развита была именно на Западе. Ближайшими византийскими тематическими аналогами древнерусских "хожений" являются так называемые проскинитарии (греч. - поклонение). Например, "Повесть Епифания об Иерусалиме" (конец VIII - IX в.) или "Краткое повествование о святых местах Иерусалимских" (середина XIII в.) и др. Формально-содержательно проскинитарии представляют собой своеобразные атласы-путеводители по Святой Земле, или каталоги библейско-христианских достопримечательностей, в которых упоминание последних сопровождается соответствующими библейско-историческими выписками и статистическими указаниями относительно размеров, количества, расстояния. Такие перечни составлялись на протяжении столетий и, соответственно, были лишены индивидуального авторского и национально окрашенного начала. Западными тематическими аналогами древнерусских "хожений" являются так называемые итинерарии (от лaт. iter, itineris - путь, движение, путешествие): "О святых местах" Сильвии Аквитанской (IV в.), "Перегринация" Этерии (ок. 380 г.) и др. Они имеют повествовательно-описательный характер и представляют собой авторский рассказ об истории конкретного путешествия. Вероятно, древнерусские "хожения" в плане формы и содержания возникли как результат литературного симбиоза указанных жанровых разновидностей.
Наиболее ранним, значительным и популярным памятником древнерусской литературы "хожений" является "Житье и хожденье Данила, Русьскыя земли игумена". Составлено произведение в начале XII века, сохранилось в количестве почти 150 списков, древнейшие из которых относятся к XV веку. Об авторе известно только то, что он сам сообщил о себе в своем сочинении. Видимо, Даниил происходил родом из Южной Руси, был пострижеником Киево-Печерского монастыря и затем нес послушание в каком-то из черниговских монастырей; в Палестине же Даниил пребывал около 16 месяцев, в промежутке между 1106 и 1108 гг., ибо именно в это время во главе Иерусалимского государства находился не раз упоминаемый им король-крестоносец Балдуин I. Свое путешествие Даниил осуществил в сопровождении соотечественников, некоторых из которых он даже называет.
Свое "Хождение" Даниил написал, по-видимому, сразу по возвращении на родину. Во всяком случае, - не позднее 1113 г., поскольку он упоминает как живого великого киевского князя Святополка II Изяславича, который умер как раз в 1113 г. Даниил повествует от первого лица, детально описывая виденные им библейско-христианские святыни и попутно пересказывая связанные с этими святынями предания, главным образом, легендарно-апокрифического толка - устного или книжного происхождения. Именно наличие в "Хождении" основанного на предании материала, а также присущая ему лирическая интонация определяют его литературное значение. "Хождение" пользовалось на Руси огромной популярностью и, соответственно, предопределило собой характерные особенности последующих древнерусских сочинений на тему жанра благочестивых путешествий. Большое распространение "Хождения" объясняется также и тем, что оно написано языком, близким к живому разговорному русскому языку, то есть было доступно самым широким читательским кругам.
Повествование Даниила обрамлено вступлением и заключением. Основная часть разбита на главки, каждая из которых посвящена определенному предмету: "О Ерусалиме, о Лавре", "О пути в Иерусалим", "О церкви Воскресения Господня", "О гробе Лотове, иже в Сигоре" и т. п. Во вступлении Даниил сообщает, что свое путешествие он, "недостойный игумен", "хужши во всех мнисех, съмереный грехи многими", предпринял, желая увидеть "святый град Иерусалим и землю обетованную". Он просит читателей не зазрить его "худоумью" и "грубости"; сетует на то, что совершил свое путешествие как человек грешный: "аз же неподобно ходих путем сим святым, во всякой лености, и слабости, и в пьяньстве, и вся неподобная дела творя". Однако Даниил решился описать все, что видел "очима своима", убоявшись примера того раба, который скрыл данный ему господином его талант и не сотворил "прикуп". И еще два побуждения заставили Даниила предпринять свой литературный труд: личное, - любовь к святым местам и боязнь забыть явленное ему Господом, и общественное, - желание дать людям точное описание святых мест, дабы они, даже не совершая собственного путешествия, могли под его руководством мысленно посетить их и получить от Бога такую же "мзду", как и те, кому реально удалось побывать там. При этом замечательно рассуждение Даниила о том, что можно спасти свою душу даже и не совершив путешествия в Святую землю, а лишь творя добрые дела дома; и наоборот, те, кто совершили такое путешествие и по этому поводу вознеслись "умом своим", вообразив, будто сделали нечто доброе, лишь уничтожают "мьзду труда своего".
Записи свои Даниил стал вести начиная с Царьграда. По пути в Палестину он побывал в городе Ефесе, на острове Патме, на Кипре и в других местах. Подходя к Иерусалиму, Даниил увидел сначала столп Давидов, затем Елеонскую гору и церковь Воскресения, где находится Гроб Господень, а затем увидел и весь город. "И бываеть тогда, - пишет он, - радость велика всякому християнину, видевше святый град Иерусалим, и ту слезам пролитье бывает от верных человек. Никто же бо можеть не прослезитися, узрев желанную ту землю и места святая вида, идеже Христос Бог нашь претрьпе страсти нас ради грешных". Вслед за тем подробно описывается храм Воскресения и Гроб Господень в нём. За церковным алтарём находится "пуп" земли. В двенадцати саженях от него находится Голгофа.
Даниил повидал в Палестине много святынь: жертвенник Авраама, на котором Авраам принёс в жертву Богу "овна" вместо сына своего Исаака; гроб Богородицы, пещеру, в которой предан был Христос, и другую пещеру, в которой Христос начал учить своих учеников, и пещеры Иоанна Крестителя и Ильи-пророка, и пещеру, в которой Христос родился. В Палестине же Даниил посетил посетил все важнейшие места: помимо Иерусалима его окрестности - Вифанию, Гефсиманию, Вифлеем, Иерихон; древние монастыри Феодосия Великого, Саввы Освященного (в нем он жил), Харитона Исповедника; Хеврон и дуб Мамврийский; затем Тивириаду, Фаворскую гору, Назарет, Кану Галилейскую. Особое внимание Даниил уделил реке Иордану. Вода в нём очень мутная и сладкая, и никогда от той воды не приключается никому ни болезнь, ни какая-либо пакость. В праздник Крещения, когда на берегу Иордана собирается множество людей, Даниил видел "благодать Божию": как Дух Святой нисходит на воды Иордана, и достойные люди видят его, остальные же не видят, но в сердце каждого христианина бывает радость и веселие. Во всём подобен Иордан русской реке Снови. В заключение Даниил рассказывает о том, как усердно он молился за своих князей и за весь русский народ. Эта молитва была одной из целей его путешествия.
Рассказ Даниила о пребывании в Святой земле многоаспектен. Во-первых, он тщательно описывает различные архитектурные сооружения: храмы с их росписями, военные фортификации, гробницы персонажей Священной истории. Во-вторых, он характеризует природу Палестины, которая интересует его и как место, где произошли разные исторические события, и как проявление величия Бога-Творца, и как реальные условия его путешествия. В-третьих, он обращает внимание на хозяйственную жизнь страны, на особенности земледелия, скотоводства, садоводства, рыбного и других промыслов. Наконец, Даниил вспоминает о своих встречах с самыми разными людьми - католиками, мусульманами, православными, и при этом проявляет удивительную религиозную веротерпимость.
Вот несколько эпизодов из "Хождения".
Рассказывая о Фаворской горе, Даниил описывает пещеру Мелхиседека и, разумеется, сообщает предание о нем, известное в Древней Руси по апокрифу. В древности, пишет Даниил, около пещеры был великий лес. Сюда некогда явился Авраам, подошел к пещере и трижды воззвал: "Человече Божий". В ответ вышел Мелхиседек и вынес хлеб и вино. Он сделал в пещере "жерътовник", на котором иствори жертву хлебом и вином. И ту благослови Мелхиседек Авраама, и остриже и Авраам, и обреза нокти его, и бе бо космат Мелхиседек. И то бысть начаток литургиям хлебом и вином, а не опреснокам". Заметим, написано это как раз в эпоху горячей греко-латинской полемики, в ходе которой, в частности, обсуждался и вопрос о латинской традиции совершать таинство Евхаристии на пресном хлебе. Даннил дважды входил в пещеру Мелхиседека, поклоняясь "святей той трапезе, ю же создал Мелхиседек со Авраамом". При этом Даниил пишет со ссылкой на утверждение живших на Фаворской горе иноков: "И ныне приходить ту святый Мелхиседек часто и литургисает в пещере той святей. И почивают вси вернии, иже ту живут, в горе той святе, ти же ми поведаша о том по истине".
Наиболее ярким разделом в сочинении Даниила является рассказ "О свете небеснем, како сходит ко Гробу Господню". Это последняя и самая большая по объему глава "Хождения". Она интересна в литературном отношении, поскольку ее структурирующим началом является сюжетное повествование; она интересна в идейном отношении, поскольку в ней выражено конфессионально-национальное самосознание автора; и наконец она интересна в церковно-археологическом отношении, поскольку фиксирует ряд фактов религиозной жизни христианского средневековья.
Будучи очевидцем чуда, Даниил рассказывает о нем не только как беспристрастный документалист, но и как неравнодушный поборник веры и истины: "Се ми Господь показа видети, худому и неразумному рабу. И видех очима своима грешныма по истине, како сходит святый свет къ Гробу животворящему Господа нашего Иисуса Христа". Прежде всего, Даниил стремится опровергнуть кривые домыслы относительно природы огня, чудесно являемого Господом в канун Пасхи: "Мнози бо странници неправо глаголють о схожении света святаго; инъ бо глаголеть, яко святый Духъ голубем сходит къ Гробу Господню, а друзии глаголють, - молнии сходить с небесе, и тако вжигаются кандила над Гробом Господнимь. И то есть лжа и неправда! Ничто же бо есть не видети тогда, ни голубя, ни молнии, но тако: невидимо сходит с небеси благодатию Божиею и вжигает кандила в Гробе Господни!".
Рассказ Даниила обстоятелен и детален. Он свидетельствует, что перед Пасхой, "в Великую пятницю по вечерни" совершалось помовение Гроба Господня и лампад, замена фитилей в светильниках, после чего "въ 2 час нощи", то есть примерно в 8 вечера, храм опечатывался, "и тогда изгасять вся кандила и свещи по всем церквамъ въ Иерусалиме". В тот же день, еще утром, Даниил пришел к королю Болдуину с просьбой: "Княже мой, господине мой! Молю ти ся Бога деля и князей деля русских: повели ми, да бых и азъ поставил свое кандило на гробе святемь от всея Русьскыя земля!" Получив разрешение, Даниил купил лампаду и масло и только вечером пришел ко Гробу. "И поставих, - пишет он, - своима рукама грешныма в ногах, иде же лежаста причистеи нозе Господа нашего Иисуса Христа; в главах бо стояше кандило гречьское, на персехъ поставлено бяше кандило святаго Савы и всехъ монастырей; тако бо обычай имут: по вся лета поставляють кандило гречьское и святаго Савы… а фряжьская каньдила повешана бяху горе".
В великую субботу, "въ 6 час дне", то есть примерно в полдень, "вси людие" собрались около храма "святаго Въскресениа", - "от всех странъ пришелци и тоземци: и от Вавилона, и от Египьта, и от всех конець земли… несказанно множьство". Даниил отмечает "великую тесноту и томление люте людемъ" когда они ожидают "съ свещами не вожженами… отврьзениа дверий церковных". А в храме "тогда токмо попове едини суть". Двери открываются, когда приходит "князь съ дружиною", но в храм все не помещаются и "стоять вне церкви людие мнози зело, около Голгофы и около Краниева места и дотуда, иде же кресты налезени (найдены); и все то полно будеть людий бе-щисла много множьство. И ти людие вси въ церкви и вне церкве иного не глаголють ничто же, но токмо "Господи, помилуй!"" зовут неослабно и вопиють силно" со слезами. "Всякъ бо человъкъ зазрит в себе тогда, и поминаеть грехи своя, и глаголеть в собе всякъ человъкъ: "Еда моих деля грехов не снидет свет святый?" И тако стоать вси вернии людие слезни и скрушенным сердцемъ, и тъ самъ князь Балъдвинъ стоитъ съ страхом и смирениемъ великим, источници проливаются чюдно от очию его, тако же и дружина его около его стоятъ прямо Гробу, близь олтаря великаго, вси бо сии стоят съ смерением".
Перед тем как пойти к храму, Балдуин известил братию монастыря Саввы Освященного о своем выходе, и савваиты, среди которых находился и Даниил, присоединились к нему: "И приидохом ко князю тому и поклонихомся ему вси; тогда и онъ поклонися игумену и всей братии и повеле игумену святаго Савы и мне худому близь себе пойти повеле". Честь Даниилу была оказана и в самом храме: Балдуин отвел ему место "высоко над самыми дверми гробными, противу великому олтарю, яко дозрети ми лзе бяше въ двери гробныя. Двери же ты гробныя все трои запечатаны бяху, и запечатаны печатию царскою. Латиньстии же попове в велицем олтари стояху".
В "8 час дне", то есть примерно в 2 пополудни, "начаша вечернюю пети на гробе горе попове правовернии… латина же в велицем олтари начаша верещати свойскПосле первой паремии "изиде епископъ с дьяконом из великого олтаря, и приде къ дверем гробным, и позре въ Гробъ сквозе крестець дверей техъ, и не узре света в Гробе, и възвратися опять". Когда "начаша чести 6-ю паремию, тот же епископъ прииде къ дверем гробным и не виде ничто же. И тогда вси людие възпиша съ слезами "Кирие, елеисонъ", еже есть "Господи, помилуй!". И яко бысть 9-му часу минувшую, и начаша пети песнь проходную "Господеви поим" (завершающую 6 паремию), тогда внезаапу прииде туча мала от встока лиць и ста над верхом непокрытым тоа церкве, и дождь малъ над Гробом святымъ, и смочи ны добре стоящих на Гробе. И тогда внезаапу восиа светъ святый во Гробе святемь: изиде блистание страшно и светло из Гроба Господня святаго. И пришед епископъ съ 4-рми дияконы, отверзе двери гробныя, и взяша свещу у князя того у Балдвина, и тако вниде въ Гробъ, и вожже свещу княжю первее от света того святаго; изнесше же из Гроба свещу ту и даша самому князю тому в руце его. И ста княз-ет на месте своемъ, свещю держа с радостию великою. И от того вси свои свещи въжгохомъ, а от наших свещь вси людие вожгоша свои свещи, по всей церкви друг отъ друга вожгоша свещи.
Свет
же святы, - вновь возвращается Даниил к теме невещественной природы чудесного
огня, - не тако, яко огнь земленый, но чюдно инако светится изрядно, и пламянь
его червлено есть, яко киноварь, и отнудь несказанно светиться. И тако вси
людие стоят съ свещами горящими, и вопиють вси людие велегласно "Господи,
помилуй!" съ радостию великою и с веселием".
Рассказывая о чуде, Даниил пытается передать то необыкновенное воодушевление,
которое охватило всех людей: "Така бо радость не можеть быти человеку, ака
же радость бываетъ тогда всякому християнину, видевши светъ Божий святый".
Поверить в это трудно: "Иже бо не видевъ тоа радости въ тъ день, то не
иметь веры сказающим о всемъ том видении. Обаче мудрии и вернии человеци велми
верують и въсласть послушають сказаниа сего и истины сеа и о местъх сих
святыхъ. Верный в мале и во мнозе веренъ есть, а злому человеку неверну истина
крива стваряються". Однако Даниил призывает в свидетели своей правдивости
Бога и своих спутников: "Мне же худому Богъ послух есть и святый Гробъ
Господень и вся дружина, русьстии сынове, приключьшиися тогда во тъ день
ногородци и кияне: Изяславъ Иванович, Городиславъ Михайлович Кашкича и инии
мнози, еже то сведають о мне худомъ и о сказании семъ".
Зажегши свечи от чудесного огня, люди расходятся "въ свояси", каждый в своюцерковь и там "канчивають пение вечернее". А в храме Гроба Господня богослужение заканчивают "сами попове едини, безъ людий". Вместе с савваитами вернулся в монастырь святого Саввы и Даниил. Рано утром "въ Святую неделю" савваиты с крестным ходом и под пение кондака "Аще и въ гробъ сниде, безмертне" вновь приходят в храм святого Воскресения для молитвенного поклонения Гробу. Чудесно загоревшиеся лампады еще горят. И Даниил, видимо, с удовлетворением подчеркивает, что именно "3 кандила бяху вожьглися тогда, яко же поведа ны иконом и ключарь Гроба Господня; ко игумену глаголаста оба: "Доле стаащеа на Гробе Господни, та 3 кандила възгорестася". А иных 5 кадилъ виситъ над гробомъ; но горяху тогда; светъ ихъ инакъ бяше, не яко-же онехъ 3-хъ кадилъ, изрядно и чюдно светится". Между прочим, в самом начале своего рассказа о чудесном нисхождении огня накануне Пасхи Даниил также отмечал, что "фряжьская каньдила повешана бяху горе, а от тех ни едино же възгореся". Такое сугубое, как бы соревновательное, внимание Даниила к данному факту показывает, что в нем он, несомненно, усматривал доказательство истинности православия и поврежденности латинства. Однако в целом он с должным пиететом относится к латинянам - в то время хозяевам Святой Земли.
На третий день по Пасхе, то есть во вторник, Даниил опять приходит в церковь Воскресения, чтобы забрать свою лампаду. Ключарь любезно дозволил ему сделать это. "Азъ же, - пишет Даниил, - вшедъ въ гробъ и видехъ кадило свое, стояща на гробе святемъ и еще горяще светомъ темъ святымъ, и поклонився Гробу тому святому, и облобызавъ с любовию и слезами место то святое, иде же лежало тело Господа нашего Иисуса Христа пречистое; и тогда измерих собою Гробъ въдле и вшире и выше же, колико есть; при людех бо невозможно есть измерити его никому же. И почьстих Гроба Господня по силе моей, яко мога, и тому ключареви подах нечто мало и худое благословение свое. Он же виде любовь мою сущую к гробу Господню, и к тому ми удвигнувъ дощъку, сющую во главах Гроба Господня святаго, и уятъ ми того святаго камени мало благословение, и запретивъ ми с клятвою никому не поведати въ Иерусалиме. Азъ же, поклонився Гробу Господню и ключареви, и вземъ кандило свое съ масломъ святымь, изидох из Гроба святаго с радостию великою, обогатився благодатию Божиею и нося в руку моею даръ святаго места и знамение святаго Гроба Господня, и идох, радуяся, яко некако скровище богатьства нося, идох в келию свою, радуяся великою радостию".
В кратком заключении к "Хождению" Даниил говорит о действительной цели своей поездки в Святую Землю, которая обусловлена была отнюдь не религиозным эгоизмом и, конечно же, не досужим любопытством. "И Богъ тому послух и святый Гробъ Господень, яко во всех местех святых не забых именъ князь русскых, и княгинь, и детей ихъ, епископъ, игуменъ, и боляръ, и детей моих духовных, и всех христианъ николи же не забыл есмь; но во всех святыхъ местех поминалъ есмь: первее поклонялъся есмь за князей за всех, и потомъ о своих гресех помолился есмь. И о сем похвалю благаго Бога, яко сподоби мя, худаго, имена князей рускых написати в лавре у святаго Савы; и ныне поминаются имена их во октении, с женами и с детьми их… И отпехом литургии за князи русскыя и за вся християны, 50 литургий; а за усопшаа 40 литургий отпехом". Еще раз говорит Даниил и о цели своего литературного труда: "Буди же всемъ, почитающим писание се с верою и с любовию, благословение от Бога и от святаго Гроба Господня и от всех местъ сих святыхъ! Приимут мзду от Бога равно с ходившими (в) места си святаа! Блажени же видевше вероваша, треблажени не видевшие веровавше!"
Каково же литературное значение сочинения Даниила? Оно многогранно. Прежде всего необходимо констатировать просветительное значение "Хождения". Ведь этот литературный труд в качестве путеводителя по Святой Земле знакомил древнерусских людей с христианским Востоком, с его святынями и благочестивыми преданиями о них, а также с разнообразными обычаями Востока. Тем самым он способствовал утверждению христианства на Руси. Кроме того, будучи первым и новаторским литературным результатом работы в жанре повествования о путешествии, "Хождение" игумена Даниила явилось повествовательно-стилистическим образцом художественного очерка о непосредственных впечатлениях от лично виденного и слышанного, которым пользовались впоследствии многие поколения древнерусских книжников.
Список литературы
ПЛДР: XII век. М., 1980. С. 24-115.
Заболотский П. Легендарный и апокрифический элементы в хождении игумена