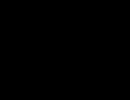Что такое житийная повесть. Возвращаясь к древнерусским традициям просвещения
Близка к «Повести о Петре и Февронии» житийная повесть — о Петре, царевиче Ордынском. И здесь в центре повествования легендарный, не исторический персонаж, и здесь нет темы мученичества и страданий за веру. Герой Жития — благочестивый татарский царевич Петр, которому во сне явились апостолы Петр и Павел, дали два мешка с золотом и велели возвести на эти деньги храм.
Для построения храма Петру необходимо разрешение местного ростовского князя, но князь относится к просьбе Петра без большого сочувствия. Фигура этого князя вообще весьма своеобразна. Он вовсе не злодей — скорее положительный персонаж, но вместе с тем расчетливый политик, явно подтрунивающий над благочестивым царевичем: «Владыка тебе церковь устроит, а аз место не дам. Что сотвориши?».
Петр, ссылаясь на повеление апостолов, смиренно соглашается купить у князя, «елико отлучит благодать твоя от земли сия». Услышав эти слова и увидев мешки в руках Петра, князь решает про себя извлечь пользу из «ужасти» Петра и владыки (архиепископа), потрясенных чудом: «У тебе колико отлучить от ужасти владыки, от святых апостол».
Здесь явная игра со словом «отлучити», имеющим в первом случае скромно-благочестивый, а во втором — откровенно циничныйсмысл. Князь требует за землю для храма столько золотых монет, чтобы ими можно было обложить весь участок, уступленный Петру. Петр соглашается, приобретает участок с находящимся на нем озером, окапывает его рвом и выкладывает по границам своего участка столько денег (вынимая их из волшебных мешков), что ими наполняют посланные князем возы и колесницы.
После построения храма Петр собирается вернуться к себе в Орду, но князь уговаривает его жениться в Ростовской земле. И опять мотивы поведения князя откровенно практичны: «Аще сей муж, царево племя [родственник хана], идет в Орду, и будет спона граду нашему... Петр, хощеши ли, поимем за тя невесту?». После смерти Петра «в глубоце старости» на земле, отданной ему князем, был устроен монастырь.
Остальная часть Жития посвящена судьбе этого монастыря и потомков Петра Ордынского и спорам между монастырем и городом Ростовом из-за расположенного на монастырской земле озера. Как и рассказ о покупке Петром княжеской земли, рассказ этот имеет явно фольклорный характер.
Спор об озере начинается со своеобразного состязания городских (ростовских) и монастырских (петровских) ловцов рыбы: «Ловцем же их задевахуся рыбы паче градских ловцев. Аще бы играя, петровстии ловцы ввергли сеть, то множество рыб извлечаху, а градстии ловци, труждающеся много, оскудеваху».
Обиженные за своих «ловцов» потомки князя, давшего грамоту Петру, решают лишить потомков Петра (владетелей монастырской земли) права на ловлю рыбы, ссылаясь на то, что предок их уступил Петру землю, но не озеро.
Разрешение этого спора опять оказывается типично фольклорным, причем в роли справедливого судьи выступает посол татарского царя. Он спрашивает у ростовских князей, могут ли они снять воду с дарованной Петру земли. «Вода наша есть отчина, господине, а сняти ея не можем, господине», — отвечают князья. «Аще не можете сняти воду с земля, то почто своею именуете? А се творение есть вышняго Бога на службу всем человеком», — решает посол.
История русской литературы: в 4 томах / Под редакцией Н.И. Пруцкова и других - Л., 1980-1983 гг.
Рядом с житийной литературой, поражающей читателя глубиной нравственно-философских исканий, изысканностью стиля, в XV в. существовала и агиографическая повесть , основанная на народной легенде или документальном свидетельстве. Она была необычна в жанрово-композиционном отношении, безыскусна по стилю, о чем свидетельствуют, например, памятники, созданные в конце 1470-х гг., – новгородская повесть о Михаиле, монахе Клопского Троицкого монастыря (1410–1450-е), и рассказ о смерти Пафнутия Боровского (1477), основателя одного из знаменитых монастырей Подмосковья.
"Повесть о житии Михаила Клопского"
Новгородская житийная повесть о Михаиле Клопском резко расходится с агиографическим каноном, открываясь не сообщением о рождении героя в семье благочестивых родителей, а рассказом о сто таинственном появлении в монастыре. Автор сразу вводит читателя в действие, отказываясь от риторического вступления и предыстории героя. Поп Макарий, вернувшись после службы, обнаружил, что келья открыта, в ней сидит незнакомый старец и при свете свечи переписывает главы из Деяний святых апостолов. На все вопросы сбежавшейся на зов Макария братии: "Кто еси ты, человекъ ли еси ли бѣсъ? Что тебѣ имя? <...> Какъ къ нам пришелъ? Откуду еси?" – незнакомец отвечал троекратно повторенными вопросами, чем еще больше озадачил и растревожил монахов. Игумен Феодосий, убедившись, что перед ними человек, а не бес, успокоил братию: "Не бойтеся... Богъ намъ послалъ сего старца". Позднее, услышав голос и "заглянув в очи" пришельца, в нем узнал своего родственника приехавший в монастырь князь Константин, сын Дмитрия Донского. Как доказал В. Л. Янин, Михаил Клопский был "своитином" московских князей: он приходился сыном воеводе Дмитрию Боброку – герою Куликовской битвы, женатому на сестре Дмитрия Донского Анне.
Михаила Клопского часто причисляют к святым особого типа – юродивым , "уродивым Христа ради", которым дозволялось "ругатися миру, горделивому и суетному", обличать порок всегда и везде (даже в храме во время службы), независимо от того, кто был его носителем ("слабые" или "сильные" мира сего). Однако, по замечанию А. М. Панченко, Михаил Клопский не совсем укладывается в этот тип, поскольку его отречение от мира не знает крайностей, он не "скитается меж двор", не обрекает себя на "самоизвольное мученичество". С юродивыми Михаила сближают загадочность поведения и речи, склонность к пророчествам и страсть к обличению.
"Повесть о житии Михаила Клопского" имеет ярко выраженную антибоярскую направленность. Она во многом объясняется тем, что Клопский монастырь, возникший на рубеже XIV–XV вв., первоначально не имел земельных владений, а потому часто вступал в конфликт с боярами, которым принадлежали земли в Шелонской пятине, где был расположен монастырь. В "Повести" рассказывается, как новгородский посадник Григорий Кириллович Посахно, разгневавшись на обитель, запретил инокам на его землях пасти скот и ловить рыбу, а за ослушание грозил "ногы и руки перебити". Но сбылось предсказание Михаила Клопского о том, что сам посадник останется без рук и ног и едва не утонет. Григорий Кириллович, застав на реке монастырских рыбаков, погнался за ними, хотел ударить, но промахнулся и упал в воду. Слугам удалось спасти его, но от пережитых волнений у посадника отнялись конечности. В Клопском монастыре за него отказались молиться даже после вмешательства новгородского архиепископа. Михаил, нарушая закон христианского смирения, язвительно отвечал посланникам новгородского владыки: "Молимъ Бога о всем миру, не токмо о Григорьи". Более года посадник ездил по монастырям, замаливая свой грех, но ничего не помогало. Когда его наконец принесли на ковре в Клопскую обитель, он не мог и перекреститься. Только после молебна, который отслужил Михаил, к посаднику вернулась способность двигаться и говорить.
В борьбе Новгорода и Москвы Клопский монастырь поддержал великого князя, за что после победы Ивана III над новгородской боярской оппозицией получил земельные наделы, в то время как у других новгородских монастырей они были конфискованы. Промосковская позиция "Повести о житии Михаила Клопского" особенно заметна в рассказе о пророчестве святым событий 1470-х гг. Посаднику Ивану Немиру, приехавшему в монастырь за благословением после совета с "жонкой" (имеется в виду посадница Марфа Борецкая) о передаче власти в Новгороде литовскому князю Михаилу Олельковичу, старец язвительно и гневно отвечает: "То у вас не князь – грязь!" Михаил Клопский советует отправить новгородских послов "бить челом" великому московскому князю, так как именно он в скором времени "город возметь, да всю свою волю учинить". Когда Иван III ходил покорять Новгород, Михаила Клопского в живых уже не было; пророчество святого должно было, но замыслу автора "Повести", служить грозным предупреждением мятежному новгородскому боярству. Данный фрагмент ученые считают главным для датировки произведения. Окончательное присоединение Новгорода к Москве произошло после похода 1478 г., но в пророчестве Михаила ничего не говорится о заточении новгородского архиепископа, имевшем место в 1480 г., следовательно, "Повесть" была создана между 1478 и 1480 гг.
Автором "Повести", скорее всего, являлся кто-то из братии Клопского монастыря, до пострижения принадлежавший либо к ремесленному, либо к торговому люду Новгорода. Это обстоятельство объясняет, почему памятник был популярен в демократической среде, а одно из чудес Михаила Клопского – защита купца от морской стихии. Михайло Марков, год торговавший "за морем", возвращаясь на родину, попал в беду: "бысть буря велия, валы великы, и бьющуся кораблю о дно моря..." Михаил Клопский, "невидимо явившийся" на помощь купцу тотчас после молитвы, не дал ему погибнуть, "избави корабль от потопления". В народной среде святой воспринимался как страстный и бескомпромиссный обличитель боярского произвола, междоусобных тяжб и предательства интересов народа, видевший спасение Новгорода в добровольном, бескровном присоединении к Москве.
Сильное фольклорное начало в "Повести" проявляется в загадочности повествования, часто имеющего вопросно-ответную форму. В монастыре Михаил появляется "в канун Иванова дня", а, согласно народным поверьям, в ночь накануне Ивана Купалы цветет папоротник и совершаются чудеса. По мнению исследователей памятника, чудеса, которые творит юродивый, иногда больше похожи на действия колдуна, который напускает па людей порчу. Возможно, поэтому среди чудес святого так много связанных с мотивом кары, возмездия, наказания за грехи. Пророчества Михаила Клопского грозили людям болезнями и смертью. Новгородским боярам, враждующим из-за земельных угодий, святой предрек паралич; попу, укравшему панагию, – потерю памяти; князю Дмитрию Юрьевичу Шемяке – не великое княжение, а "трехлокотный гроб".
Инаковость героя подчеркивалась тем, что он мог чудесным образом перемещаться в пространстве: в один день его видели и в новгородском Софийском соборе, и на службе в Клопском монастыре. Иногда старец Михаил по нескольку дней пропадал "невѣдомо гдѣ". Святому удалось приручить оленя, который ходил за ним, держащим клочок мха в руке, как собака, "не привязанъ ничѣмъ". Живя в монастыре, клопский чудотворец обходился без постели, спал на песке, а келью топил мусором и конским навозом. Для автора "Повести" характерно погружение героя в низкий быт, внимание к деталям, которые имели, помимо вещного, символический смысл. Просфора, которую Михаил получил из рук игумена с Феодосия, означала, что незнакомый пришелец приобщается к братии Клопского монастыря. Предсказывая Евфимию Второму доставление на новгородский архиепископский стол, Михаил покрыл его голову "ширинкою" (платком), имитируя церковный обряд.
Своеобразие "Повести" заключается в том, что в ней житийный канон подвергается трансформации под влиянием народного представления о святости и поэтики религиозной легенды. Известно, что новгородский архиепископ Иона просил Пахомия Серба написать "Житие Михаила Клопского", но тот отказался. Видимо, профессионального агиографа смущал нетрадиционный характер бытовавших о святом воспоминаний, не вписывавшихся в житийную схему. "Повесть о житии Михаила Клопского" – это не цельное и последовательное жизнеописание святого от рождения до смерти, а собранные воедино краткие и увлекательные рассказы об удивительных случаях из его жизни. В произведении нет типичного агиографического обрамления – лирического вступления и похвалы Михаилу Клопскому. Необычен язык "Повести", яркий и сочный, близкий к живой разговорной речи новгородцев XV в. Он включает просторечия и диалектизмы, выражения, близкие к народным пословицам и поговоркам, фрагменты рифмованного характера ("хлеб да соль", "не князь – грязь"; "тоня" – рыбачья сеть, "жонки" – женщины, "сенцы" – сени, "жар" – пожня на болоте).
Литературная история памятника
В 1490-е гг., скорее всего, в стенах Клопского монастыря создается вторая редакция "Повести", которая в большей степени следует житийному канону: в тексте появляются цитаты из Священного Писания и заимствования из житий Пахомия Серба, приводятся молитвы святого, детальнее описывается его иноческий подвиг, стиль становится более книжным, витиеватым. В произведении усиливается промосковская тенденция, что придает ему большую публицистическую заостренность. Если первую редакцию "Повести" принято называть "редакцией чудес", то вторую – "редакцией пророчеств". В третий раз текст памятника был подвергнут редакторской правке в XVI в. по поручению новгородского архиепископа, будущего митрополита Макария. Новая редакция создавалась боярским сыном В. М. Тучковым во время мятежа Андрея Старицкого, поэтому в произведении актуализированы выступления Михаила Клопского против "межусобных браней" русских князей. Благодаря труду Тучкова "Повесть" превратилась в собственно "Житие Михаила Клопского", где появились риторическое вступление, лирические пассажи в основной части, в конце – похвальное слово святому. Раздел чудес был значительно расширен, стиль памятника стал торжественным и пышным. "Живой, яркий рассказ, изобилующий меткими фразами, дерзкими репликами Михаила, рассказ, в котором все жило, сверкало, превратился в сухое, многословное, статичное повествование", - отмечает Л. А. Дмитриев. Однако именно в таком виде, наиболее близком к церковно-служебному канону, произведение вошло в Великие минеи четки митрополита Макария, обретя значение не местного, а общерусского масштаба, и получило высокую оценку у читателей XVI в., считавших, что редактор "Жития Михаила Клопского" "все по чину постави и велми чюдно изложи".
Тема: Житийная литература Руси
Введение
1.2 Каноны древнерусской агиографии
2 Житийная литература Руси
3 Святые древней Руси
3.1 «Сказание о Борисе и Глебе»
3.2 «Житие Феодосия Печерского»
Заключение
Список использованной литературы
Введение
Изучение русской святости в ее истории, и ее религиозной феноменологии является сейчас одной из насущных задач нашего христианского возрождения.
Житийная литература (агиография, от греч. hagios - святой и...графия), вид церковной литературы - жизнеописания святых - которые для средневекового русского человека были важным видом чтения.
Жития святых - биографии духовных и светских лиц, канонизированных христианской церковью. Христианская церковь с первых дней своего существования тщательно собирает сведения о жизни и деятельности ее подвижников и сообщает их в общее назидание. Жития святых составляют едва ли не самый обширный отдел христианской литературы.
Жития святых были излюбленным чтением наших предков. Даже миряне списывали или заказывали для себя житийные сборники. С XVI века, в связи с ростом московского национального сознания, появляются сборники чисто русских житий. К примеру, митрополит Макарий при Грозном с целым штатом сотрудников-грамотеев, более двадцати лет собирал древнюю русскую письменность в огромный сборник Великих Четьих Миней, в котором жития святых заняли почетное место. В древности вообще к чтению житий святых относились почти с таким же благоговением, как к чтению Священного Писания.
За века своего существования русская агиография прошла через разные формы, знала разные стили и слагалась в тесной зависимости от греческого, риторически развитого и украшенного жития.
Жития первых русских святых – это книги «Сказание о Борисе и Глебе», Владимира I Святославича, «Жития» княгини Ольги, игумена Киево-Печерского монастыря Феодосия Печерского (11-12 вв.) и др.
Среди лучших писателей Древней Руси посвятили свое перо прославлению угодников Нестор Летописец, Епифаний Премудрый и Пахомий Логофет.
Все вышесказанное не вызывает сомнений в актуальности данной темы.
Цель работы: всестороннее изучение и анализ житийной литературы Руси.
Работа состоит из ведения, 3 глав, заключения и списка использованной литературы.
1 Развитие агиографического жанра
1.1 Появление первой житийной литературы
Еще св. Климент, еп. римский, во время первых гонений на христианство, поставил в различных округах Рима семь нотариев для ежедневной записи происходившего с христианами в местах казней, а также в темницах и судилищах. Несмотря на то, что языческое правительство угрожало записывателям смертною казнию, записи продолжались во все время гонений на христианство.
При Домициане и Диоклетиане значительная часть записей погибла в огне, так что когда Евсевий (умер в 340) предпринял составление полного собрания сказаний о древних мучениках, то не нашел достаточного для того материала в литературе мученических актов, а должен был делать разыскания в архивах учреждений, производивших суд над мучениками. Позднейшее, более полное собрание и критическое издание актов мучеников принадлежит бенедиктинцу Рюинарту.
В русской литературе издание актов мучеников известны у священника В.Гурьева «Мученики воины» (1876); прот. П.Соловьева, «Христианские мученики, пострадавшие на Востоке, по завоевании Константинополя турками»; «Сказания о мучениках христианских, чтимых православною церковию».
С IX в. в литературе жития святых появилась новая черта - тенденциозное (нравоучительное, отчасти политически-общественное) направление, украшавшее рассказ о святом вымыслами фантазии.
Более обширна литература второго рода «житий святых»- преподобных и других. Древнейший сборник таких сказаний - Дорофея, еп. тирского (умер 362), - сказание о 70-ти апостолах.
Много житий святых находится в сборниках смешанного содержания, каковы: пролога, синаксари, минеи, патерики.
Прологом называется книга, содержащая в себе жития святых, вместе с указаниями относительно празднований в честь их. У греков эти сборники называются синаксарями. Самый древний из них - анонимный синаксарь в рукописи еп.Порфирия Успенского 1249 года. Наши русские прологи - переделки синаксаря императора Василия, с некоторыми дополнениями.
Минеи суть сборники пространных сказаний о святых в праздниках, расположенных по месяцам. Они бывают служебные и минеи-четии: в первых имеют значение для жизнеописания святых обозначения имен авторов над песнопениями. Минеи рукописные содержат больше сведений о святых, чем печатные. Эти «минеи месячные» или служебные были первыми сборниками «житий святых», сделавшимися известными на Руси при самом принятии ею христианства и введении Богослужения.
В домонгольский период в русской церкви существовал уже полный круг миней, прологов и синаксарей. Затем в русской литературе появляются патерики - специальные сборники житий святых. В рукописях известны переводные патерики: синайский («Лимонарь» Мосха), азбучный, скитский (несколько видов; см. опис. ркп. Ундольского и Царского), египетский (Лавсаик Палладия). По образцу этих патериков восточных, в России составлен «Патерик Киево-Печерский», начало которому положено Симоном, еп. владимирским, и киево-печерским иноком Поликарпом.
Наконец, последний общий источник для житий святых всей церкви составляют календари и месяцесловы. Зачатки календарей относятся к самым первым временам церкви. Из свидетельства Астерия Амасийского (умер 410 г.) видно, что в IV в. они были настолько полны, что содержали в себе имена на все дни года.
Месяцесловы, при евангелиях и апостолах, делятся на три рода: восточного происхождения, древнеитальянские и сицилийские, и славянские. Из последних древнейший - при Остромировом Евангелии (XII в.). За ними следуют месяцесловы: Ассемани, при глаголитском Евангелии, находящемся в Ватиканской б-ке, и Саввин, изд. Срезневским в 1868 г.
Сюда же относятся краткие записи о святых (святцы) при церковных уставах иерусалимском, студийском и константинопольском. Святцы - те же календари, но подробности рассказа приближаются к синаксарям и существуют отдельно от Евангелий и уставов.
С начала XV века Епифаний и серб Пахомий создают в северной Руси новую школу – школу искусственно изукрашенного, пространного жития. Ими – особенно Пахомием – создается устойчивый литературный канон, пышное «плетение словес», подражать которому стремятся русские книжники до конца XVII века. В эпоху Макария, когда переделывалось множество древних неискусных житийных записей, творения Пахомия вносились в Четьи Минеи в неприкосновенности.
Огромное большинство этих агиографических памятников находится в строгой зависимости от своих образцов. Есть жития почти целиком списанные с древнейших; другие развивают общие места, воздерживаясь от точных биографических данных. Так поневоле поступают агиографы, отделенные от святого длительным промежутком времени – иногда столетиями, когда и народное предание иссякает. Но и здесь действует общий закон агиографического стиля, подобный закону иконописи: он требует подчинения частного общему, растворения человеческого лица в небесном прославленном лике.
Домочадцам, и тем, кто приходил к ним в дом. Соединение церковной идеализации с бытом неизбежно вело к разрушению этой идеализации». Лихачев именно от «Повесть о Марфе и Марии» и «Повесть об Ульянии Осорьиной» начинает линию нового типа житийной литературы XVII века, которая была прочно соединена с бытом и нашла наиболее яркое воплощение в «Житии» протопопа Аваккума. Идеи Ф.И. Буслаева и Д.С. ...
В своих сочинениях символическими уподоблениями, сравнениями и метафорами, иногда беря для этого материал из мира природы и давая, напр. в «Слове на новую неделю по пасце», первые в русской литературе образцы пейзажа. В других своих сочинениях Кирилл Туровский прибегает к драматизации изложения, вводя в рассказ приемы диалогического построения речи. Элементы символического параллелизма в...
Возвращается в город, неся в руках свою голову, святой Иоанн Новгородский путешествует в Иерусалим на бесе, Климент Римский попадает в Новгород на большом камне. 2.3. Каноническая структура житийного жанра в 12-13 веках Жития святых XVII века знаменуют собой, в известном смысле, логическое завершение древнерусской агиографии, постепенный переход к новому периоду русской литературы. ...
Нестор же был одним из первых русских агиографов, и традиции его творчества найдут продолжение и развитие в сочинениях его последователей. Жанр житийной литературы в ХIV – ХVI веках. Жанр житийной литературы получил широкое распространение в древнерусской литературе. «Житие царевича Петра Ордынского, Ростовского (XIII век)», «Житие Прокопия Устюжского» (ХIV). Епифаний Премудрый (умер в 1420 ...
Из литературы, предназначавшейся для чтения, в древней Руси наибольшей распространённостью пользовалась литература житийная, или агиографическая (от греческого ауос - святой), при посредстве которой церковь стремилась дать своей пастве образцы практического применения отвлечённых христианских положений. Условный, идеализованный образ христианского подвижника, жизнь и деятельность которого протекали в обстановке легенды и чуда, являлся наиболее подходящим проводником той идеологии, которую церковь призвана была насаждать. Автор жития, агио-граф, преследовал прежде всего задачу дать такой образ святого, который соответствовал бы установившемуся представлению об идеальном церковном герое. Из его жизни брались лишь такие факты, которые соответствовали этому представлению, и замалчивалось всё то, что с ним расходилось. Мало того, в ряде случаев измышлялись события, в жизни святого не имевшие места, но содействовавшие его прославлению; бывало и так, что факты, рассказанные в житии какого-либо популярного церковного подвижника, приписывались другому подвижнику, о жизни которого известно было очень мало. Так, например, в практике русской оригинальной агиографии были случаи, когда при написании жития какого-нибудь отечественного святого заимствовалось то, что говорилось относительно одноимённого святого византийского. Такое свободное отношение к фактическому материалу было следствием того, что агиография ставила себе целью не достоверное изложение событий, а поучительное воздействие. Святой примером своей жизни должен был утверждать истинность основных положений христианского вероучения. Отсюда - элементы риторики и пане-гиризма, которые присущи большинству произведений житийной литературы, отсюда и установившийся тематический и стилистический шаблон, определяющий собой житийный жанр.
Обычно житие святого начиналось с краткого упоминания о его родителях, которые оказывались большей частью людьми благочестивыми и в то же время знатными. Святой родится «от благо-верну родителю и благочестиву», «благородну и благочестиву», «велику и славну», «богату». Но иногда святой происходил от родителей нечестивых, и этим подчёркивалось, что, несмотря на неблагоприятные условия воспитания, человек всё же становился подвижником. Далее шла речь о поведении будущего святого в детстве. Он отличается скромностью, послушанием, прилежанием к книжному делу, чуждается игр со сверстниками и всецело проникнут благочестием. В дальнейшем, часто с юности, начинается его подвижническая жизнь, большей частью в монастыре или в пустынном уединении. Она сопровождается аскетическим умерщвлением плоти и борьбой со всяческими страстями. Чтобы, например, избавиться от женского соблазна, святой причиняет себе физическую боль: отрубает палец, отвлекаясь этим от плотских вожделений (ср. соответствующий эпизод в «Отце Сергии» Л. Толстого), и т. п. Часто святого преследуют бесы, в которых воплощаются те же греховные соблазны, но молитвой, постом и воздержанием святой одолевает дьявольское наваждение. Он обладает способностью творить чудеса и вступать в общение с небесными силами. Кончина святого большей частью бывает мирная и тихая: святой безболезненно отходит в иной мир, и тело его после смерти издаёт благоухание; у гроба святого и на его могиле происходят чудесные исцеления: слепые прозревают, глухие получают слух, больные исцеляются. Заканчивается житие обычно похвалой святому.
С внутренней стороны житие характеризуется в общем теми же особенностями, какие присущи и светской повествовательной литературе. В нём часто присутствует психологическая характеристика персонажей, особенно персонажа основного, причём для неё большей частью используются его размышления; обычны монологи, раскрывающие душевное состояние действующих лиц, сплошь и рядом в форме лирического плача, причитания; обычна также диалогическая форма речи, служащая для оживления повествования и для его драматизации. В ряде случаев агиограф, отвлекаясь от последовательного изложения судьбы святого, сам предаётся размышлениям, нередко патетически окрашенным и подкрепляемым цитатами из «священного писания». Наконец, в некоторых житиях встречается портрет святого, схематично нарисованный путём простого перечисления основных его примет.
Каноническая форма жития складывается на почве Византии в IV в. Уже в эту пору существовал наиболее характерный его образец - житие Антония Великого, написанное Афанасием Александрийским. Основная тема этого жития, художественно претворённая в XIX в. Флобером в его «Искушении святого Антония»,- напряжённая борьба святого с бесами. Своего рода итоговый характер в области житийной литературы в Византии имела работа компилятора второй половины X в. Симеона Мета-фраста, закрепившая в основном традицию агиографического трафарета.
Переводные жития издавна обращались у нас либо в распространённой форме, либо в краткой. Первые существовали отдельно или входили в состав сборников, так называемых «Четьих Миней», т. е. книг, предназначенных для чтения и располагавших материал по числам месяца; вторые, представлявшие собой краткий формуляр святого, находили себе место в «Прологах», или (по-гречески) «Синаксарах», «Минологиях» (русское название «Пролог» получилось в результате того, что русский редактор сборника вступительную статью к «Синаксару» - «ПроХоуо;» принял за заглавие сборника). «Четьи Минеи» существовали на Руси, видимо, уже в XI в. (древнейший дошедший до нас Успенский список «Четьей Минеи» за май, написанный на Руси, относится к началу XII в.) " «Пролог» - в XII в. Последний включил в себя на русской почве, кроме того, назидательные легенды-новеллы, заимствованные из «Патериков» (см. ниже), и статьи поучительного характера. Возник он, нужно думать, в результате сотрудничества южнославянских и русских церковных деятелей, в месте, где те и другие могли встречаться, скорее всего в Константинополе. Уже в ранней его редакции, помимо биографий греческих и югославянских святых, находятся «памяти» русских святых - Бориса и Глеба, княгини Ольги, князя Мстислава, Феодосия Печерского. В дальнейшем на русской почве «Пролог» пополняется обширным материалом и становится популярнейшей книгой в руках религиозного читателя. Сюжеты его используются в художественной литературе XIX - начала XX в.- в творчестве Герцена, Толстого, Лескова и др. 2 .
В XI-XII вв. в отдельных списках известны были на Руси переводные жития Николая Чудотворца, Антония Великого, Иоанна Златоуста, Саввы Освященного, Василия Нового, Андрея Юродивого, Алексея человека божия, Вячеслава Чешского (последнее - западнославянского происхождения) и др.
В качестве образчика житийного жанра в его распространённой форме возьмём житие Алексея человека божия по тексту рукописи xiv-xv вв. 1 .
Житие это начинается с рассказа о рождении в Риме будущего святого от знатных родителей, о его приверженности с детских лет к учению, о бегстве из родительского дома сейчас же после того, как его женили на девице из царского рода. Прибыв в чужой город и раздав нищим всё, что он имел, он сам живёт там семнадцать лет в нищенском одеянии, во всём угождая богу. Слава о нём распространяется по всему городу, и, убегая от неё, он решает удалиться на новое место, но «волею божиею» корабль, на котором он плыл, прибывает в Рим. Не узнанный никем, принятый за странника, он поселяется в доме своих родителей, которые вместе с его супругой неутешно скорбят об исчезнувшем сыне и муже. И тут он живёт ещё семнадцать лет. Слуги, нарушая распоряжение своих господ, всячески издеваются над ним, но он терпеливо переносит все обиды. Умирая, Алексей в оставленной перед смертью записке открывается перед своими родными и описывает свою жизнь после ухода из дома. Его торжественно хоронят при огромном стечении народа. При этом глухие, слепые, прокажённые, одержимые бесами чудесно исцеляются.
Как нетрудно видеть, в житии Алексея мы находим ряд существенных моментов житийного жанра, отмеченных выше: тут и происхождение святого от благочестивых и знатных родителей, и его ранняя склонность к учению, и пренебрежение к сладостям земной жизни, и суровый аскетизм, и блаженная кончина, и, наконец, посмертные чудеса, совершаемые у гроба святого. В житии имеются и диалогическая речь, и лирические плачи-монологи. В самом изложении присутствуют элементы украшенного, риторического стиля в соединении с авторским лиризмом. Традиционными в этом житии являются и указание на бездетность родителей святого до его рождения, и уход из родительского дома, и раздача святым своего имущества нищим, и уклонение от славы людской, и т. д. 2 . Житие Алексея, подобно другим памятникам древней русской литературы и житийной в частности, подвергалось редакционным переработкам вплоть до XVII в, оказало влияние на ряд последующих произведений нашей оригинальной литературы и, наконец, легло в основу популярного духовного стиха.
Большой интерес у нас в старину к житию Алексея объясняется тем, что в нём рассказывается о жизни человека, который своим пренебрежением ко всему тому, чем жила богатая, именитая знать, возбуждал симпатии у тех, кто не принадлежал к верхам общества. Привлекал в этом житии и общий его лирический тон.
На русской почве в древнейшее время известны были и переводные сборники кратких новелл, повествовавших о каком-либо назидательном эпизоде из жизни христианского подвижника. Сборники эти, носившие название «Патериков» или «Отечников», объединяли в себе повести об аскетах и отшельниках, живших в определённой местности или в определённом монастыре, либо о таких событиях и разнообразных жизненных случаях, свидетелями и очевидцами которых были эти отшельники. Элементы занимательности, анекдотизма и наивного суеверия, своеобразно переплетавшиеся здесь с бытовыми эпизодами чисто светского характера, способствовали широкому распространению этих повестушек, вобравших в себя материал, порой восходящий ещё к языческой мифологии. «Пролог» немало вобрал в себя патериковых легенд и этим в значительной степени обусловил свою популярность.
Из «Патериков» особенно популярны были в старину два - «Луг духовный», или «Синайский патерик» Иоанна Мосха (VII в.), излагавший события из жизни сирийских монахов, и «Египетский патерик», носящий обыкновенно заглавие «Сказание о египетских черноризцех» и использовавший в качестве материала главным образом «Лавсаик» епископа Палладия Еленопольского, составленный в 420 г. Оба патерика в XI в. уже известны были на Руси. Несколько позднее, но всё же ещё в эпоху Киевской Руси, у нас известен был «Римский патерик», составленный на Западе ".
Приведём один рассказ - о Марке - из «Египетского патерика».
«Марк этот,- рассказывает Палладий,- ещё в юности знал наизусть писания Ветхого и Нового завета; он был очень кроток и смирен, как едва ли кто другой. Однажды я пошёл к нему и, севши у дверей его келий, стал прислушиваться, что он говорит или что делает. Совершенно один внутри кельи, почти столетний старец, у которого уже и зубов не было,- он всё ещё боролся с самим собой и с дьяволом и говорил: «Чего ещё ты хочешь, старик? И вино ты пил, и масло употреблял,- чего же ещё от меня требуешь? Седой обжора, чревоугодник, ты себя позоришь». Потом, обратившись к дьяволу, говорил: «Отойди же, наконец, от меня, дьявол, ты состарился со мною в нерадении. Под предлогом телесной немощи заставил ты меня потреблять вино и масло и сде« лал меня сластолюбцем. Ужели и теперь ещё что-нибудь я тебе должен? Нечего более тебе у меня взять, отойди же от меня, человеконенавистник». Потом, как бы шутя, говорил самому себе: «Ну же, болтун, седой обжора, жадный старик, долго ли быть мне с тобою?»
В повести «Синайского патерика» о старце Герасиме и льве, в новое время художественно обработанной Лесковым, рассказывается о трогательной привязанности льва к монаху Герасиму, вынувшему из лапы льва занозу, причинявшую ему сильную боль. Лев после этого, прислуживая ему, не расставался с ним, а когда Герасим умер, и сам испустил дух на его могиле, не будучи в состоянии пережить его смерть.
Войдя в «Пролог», патериковые повести нашли себе доступ к самому широкому кругу читателей и оказали влияние на некоторые виды оригинальной книжной литературы и отчасти на устную словесность.