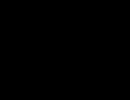Оправдание бога. Проблема теодицеи в истории философии и православном богословии
(Theodicy). Этот термин происходит от греч. cnostheos ("бог") и dike ("справедливость"). Его смысл - оправдание того, как Бог поступает с людьми. Успешная теодицея решает проблему зла в рамках конкретной теологической системы, показывая, что Бог, несмотря на существование зла, всемогущ, всеблаг и справедлив.
Характеристики теодицеи. Любая теодицея являет шесть основных характеристик.
(1)Теодицея призвана решить проблему логичности той или иной теологической позиции. Критика теистических систем чаще всего сводится к тому, что их основные положения (положения о всемогуществе Бога, Его всеблагости и о существовании зла в мире, Им сотворенном) вступают в противоречие между собой. Задача теодицеи- показать, что эти тезисы логически совместимы. Тот, кто создает теодицею, обязан доказать лишь отсутствие противоречий в его собственной теологической позиции, в его собственных представлениях о Боге и зле. Критика не имеет значения, если она исходит из того, что теодицея включает утверждения о Боге и зле, к-рые критика не разделяет; она должна быть последовательной лишь в собственных пределах. Однако такая защита Бога, края окажется внутренне непоследовательной, будет признана некорректной.
(2) Необходимо, чтобы теодицея была соотнесена с тем или иным аспектом проблемы зла (моральное зло, физическое зло, проблема отношений человека с Богом в свете переживания этим человеком конкретного зла, проблема степени или интенсивности зла). Правильная теодицея - это система, решающая специфическую проблему зла. Нельзя, к примеру, отвечать на вопрос о природном зле ссылкой на свободную волю людей. Землетрясения и засухи никак с ней не связаны. С другой стороны, свободная воля отвечает за моральное зло, т.е. зло, сотворенное морально ответственным субъектом.
(3) Теодицея должна соотноситься с конкретной теологией, поскольку даже в рамках ортодоксального христианского теизма существует несколько теологических подходов к проблемам Бога и зла. Каждая теология посвоему понимает благость и всемогущество Бога, природу зла и природу человеческой свободы. Теодицея призвана защищать действия Бога в том виде, в каком они изображаются соответствующей теологической системой. Напр., защита, исходящая из свободы воли, не решает проблему морального зла для кальвинизма, поскольку представление о свободе, подразумеваемое такой защитой, противоречит кальвинистской трактовке свободы.
(4) Проблема зла, как бы ее ни формулировать, неизбежно оказывается проблемой логичности и потому актуальна лишь для тех теологий, к-рые понимают всемогущество Бога как Его способность делать все то, что логично. Если же мы скажем, что Бог может делать все, что угодно, даже актуализовать логические противоречия, то проблема логичности отпадет сама собой. Едва ли не все теодицеи созданы в соотнесении с теологиями, согласно к-рым Бог может делать лишьто,что логично.
(5) В том, что касается моральной ответственности, теодицеи(и этические системы вообще) обычно исходят из аксиомы, согласно крой человек не несет ответственности ни за то, что он не мог бы сделать, ни за то, что он делает по принуждению.
(6) Большинство теодицей организовано в соответствии с изложенными выше принципами. Теодицеи пытаются снять очевидное теологическое противоречие, указывая, что Бог, несмотря на Его всемогущество, не способен устранить зло. Поскольку Он не способен устранить зло, Он не несет моральной ответственности за присутствие зла в мире. Эта аргументация основывается на убеждении, что всемогущество Бога - лишь способность делать все то, что логично. Стратегия состоит в выделении какогото из дел Божьих, относящегося к ценностям первого порядка и бывшего бы невозможным, если бы Бог устранил зло. Говорят, напр., что Бог не может достичь сразу двух целей - дать человеку свободную волю и устранить зло. А поскольку Он не может сделать и то и другое, Он не несет ответственности за присутствие зла в мире, ибо никто не должен быть обвинен в том, чего он не способен изменить.
Варианты теодицеи. Известные мыслители предложили несколько интерес ных теодицей, имеющих целью разрешить моральную проблему зла.
Г. Лейбниц, создатель крайне рационалистической теологии, разработал свою теодицею. По его мнению, всему, что делает Бог, есть причины; и более того, эти причины суть необходимые законы. Их можно познать посредством чистого разума, без помощи всякого откровения. Единственная метафизически необходимая сущность - это Бог. Есть бесконечное множество конечных возможных миров, к-рые Бог мог бы актуализовать, но лишь один мир - наилучший из возможных, а Бог и должен творить лучшее. Помимо метафизики, Лейбниц выработал и концепцию этики, согласно крой термины "добро" и "зло" многозначны, причем первичное их значение - метафизическое, и с ним связаны все другие значения. Метафизическое зло - это конечность или отсутствие бытия, метафизическое добро - полнота бытия. Бог нравственно благ потому, что Он хочет наилучшего (с метафизической точки зрения). В лейбницевской системе проблема зла формулируется следующим образом. Если можно продемонстрировать, что Бог пожелал сотворить не лучший из миров (в метафизическом отношении), тогда Бог не благ. Если же, напротив, удастся доказать, что Бог пожелал наибольшего метафизического блага, тогда Он морально оправдан, несмотря на присутствие в мире морального и физического зла. Лейбниц утверждает, что Бог всегда имеет для своих действий достаточное основание, постижимое чистым разумом. Актуализуя мир, Бог выбирает лучший из возможных миров. Являя собою абсолютный разум, Бог знает, каков этот наилучший мир, а будучи всемогущим, Он может его актуализовать. Поскольку Бог всеблаг, то Он хочет это сделать, - и действительно. Он актуализовал лучший из возможных миров. Богатейший (метафизически) мир должен содержать наибольшее количество наиболее разнообразных творений. Мир, включающий моральное и физическое добро и зло, метафизически богаче, чем мир, наделенный лишь моральным и физическим добром. Бог должен творить наилучшее (и, по Лейбницу, творит его), и мы видим, что лучший (метафизически) из возможных миров должен содержать моральное и физическое зло. Если бы Бог не сотворил такого мира, Он не исполнил бы своей высшей моральной обязанности- сотворить наилучший мир- и подлежал бы моральному осуждению. Следовательно, существование морального и физического зла в актуализованном Богом мире оправдано, а Бог справедлив, всемогущ и всеблаг.
Система Лейбница свободна от внутренних противоречий, и поэтому она действительно решает проблему зла как проблему внутренней последовательности. Можно отвергать теодицею и теологию Лейбница по тем или иным причинам, но не потому, что он не сумел устранить предполагаемое противоречие.
Другие распространенные теодицеи основываются на видоизмененной рационалистической теологии. Такая метафизика лежит в основе защиты, исходящей из свободы воли (августинианская традиция) и теодицеи со ссылкой на совершенствование души (иринеевская традиция). Здесь следует выделить четыре тезиса. (1) Согласно видоизмененной рационалистической теологии, Бог не обязан творить мир, ибо само существование Бога и есть высшее благо. (2) Сотворение мира - это дело, достойное Бога, но отнюдь не единственное достойное Его дело. Все, что Бог решает сделать, Он делает по некоей причине, но эти причины- не необходимые законы. (3) Число конечных возможных миров бесконечно. Нек-рые из них по природе своей дурны, и потому Бог не может сотворить их. Однако есть целый ряд благих возможных миров, к-рые Бог мог сотворить. Неверно говорить о "наилучшем" из возможных миров. (4) Бог свободен решать, творить ли ему мир вообще и какой именно из благих возможных миров творить. Здесь проблема зла формулируется так: можно ли сказать, что актуализованный Богом возможный мир, хотя в нем и присутствует зло, относится к благим возможным мирам? Сторонник видоизмененной рационалистической теологии призван продемонстрировать это, выдвинув то или иное доказательство.
Видоизмененная рационалистическая теология опирается на ту или иную базисную форму этики. Теодицея, исходящая из свободы воли, предполагает, что действие не может расцениваться как доброе или злое на основании его последствий. В плане проблемы зла это означает, что мир, созданный Богом, не содержал зла, но зло было привнесено в мир действиями существ, сотворенных Богом. Теодицея, ссылающаяся на совершенствование души, исходит из того, что моральную оценку действия следует давать именно учитывая его результат. Мир, сотворенный Богом, уже содержал зло, но нельзя обвинять Бога в этом, ибо Он в конечном счете использует зло для умножения добра.
Теодицея, ссылающаяся на свободную волю, прежде всего отмечает, что зло существует в мире не по вине Бога. Причина зла в том, что люди злоупотребляют свободой воли.Тогда возникает вопрос: не следует ли обвинить Бога в том, что Он дал человеку свободную волю, зная, что человек злоупотребит ею? Нет, отвечает теодицея, не следует, ибо свободная воля - ценность высшего порядка и Бог непременно должен был наделить ею свои творения. Не Бог, а человек использует свободу воли во зло, и потому ответственность за зло лежит на человеке. Бог же, давший людям то, чем они могли злоупотребить и злоупотребили, сотворил благо, ибо мир, где живут свободные существа, пусть даже творящие зло, гораздо лучше мира, свободного от зла, но населенного автоматами. Бог не мог сотворить людей свободными и при этом сделать так, чтобы они всегда творили добро. Если Бог заставляет человека совершать некие действия, то эти действия уже не будут свободными. Подлинная свобода воли предполагает зло, но Бог поступил правильно, дав нам свободную волю, ибо она есть благо, крое превосходит по своей значимости любые возможные злоупотребления.
Отметим следующее. (1)Если признать за теодицеей, ссылающейся на свободу воли, право формулировать свои представления о Боге, зле и человеческой свободе (а это право следует признать, учитывая природу проблемы), то предлагаемый ответ можно рассматривать как удовлетворительный, а созданную систему - как внутренне последовательную. Получается, что созданный Богом мир действительно относится к числу возможных благих миров. (2) Данная теодицея использует стратегию, описанную выше. Признается Божье всемогущество, но оно толкуется как способность Бога делать все то, что логично. Предполагается, что Бог должен был выбирать из двух вариантов, к-рые Он не мог актуализовать одновременно. Бог мог сотворить человека свободным - или сотворить мир, где нет зла. Он выбрал первое, и благо, порожденное таким выбором, намного перевешивает все то зло, крое порождено людьми, злоупотребляющими свободной волей. Бог не несет ответственности за зло, крое присутствует в мире, поскольку, дав человеку свободу, Он не мог предотвратить это зло, а никто не может быть обвинен в том, чего не может изменить.
Теодицея, ссылающаяся на совершенствование души, также основана на видоизмененной рационалистической теологии, но предполагает другую этику ("с учетом последствий"). В наши дни этот взгляд лучше всего представлен Дж. Хиком, к-рый утверждает, что Бог, творя человека, стремился не к тому, чтобы создать совершенное существо, а к тому, чтобы создать существо, нуждающееся в нравственном развитии. Бог хотел, чтобы человек на протяжении своей земной жизни морально и духовно совершенствовался, готовясь к Царству Божьему. Какая среда, спрашивает Хик, наиболее благоприятна для такого развития? Можно ли считать, что мир, свободный от зла, больше способствовал бы совершенствованию человеческого характера или же человек имеет лучшие возможности для духовного развития в мире, где присутствуют проблемы и зло? Хик убежден, что верно второе предположение. Если Бог стремится совершенствовать человеческие души, Он не может поместить человека в Эдем, где никогда не случается ничего плохого. В нашем мире есть зло, но Бога нельзя в этом винить,поскольку Он использует зло, чтобы развивать наши души и готовить нас к грядущему Царству. Да, говорит Хик, многие считают, что Бог потерпел в этом неудачу. Зло, распространившееся в мире, нередко отвращает людей от Творца, вместо того чтобы развивать их духовно. Получается, что зло не выполняет своего предназначения, а значит, Бог виновен в том, что создал такой мир. Нет, отвечает на это Хик, хотя нам и кажется, что души не совершенствуются, Бог в конце концов приведет каждую душу в Царство Небесное. Ни одна душа не останется неразвитой, никакое зло не окажется неоправданным.
Если мы признаем за воззрениями Хика на Бога и зло право на существование (а мы должны это сделать), то данное решение проблемы зла можно будет счесть удовлетворительным. Можно отвергнуть теологию Хика в целом, но нельзя не признать его аргументацию внутренне последовательной. Хик показал, что наш мир - это один из благих возможных миров, к-рые Бог мог сотворить. Кроме того, его теодицея использует ту же стратегию, что и теодицеи, описанные выше. Предполагается, что Бог должен был выбирать из двух вариантов, к-рые Он не мог актуализовать одновременно. Бог мог устранить зло, но тогда Он не мог бы развивать души своих творений; с другой стороны, развивая души, Он не мог не допустить присутствия зла, ибо это необходимо для развития душ. Совершенствование душ и приготовление их к Царству Небесному - это ценность первого порядка,оправдывающая присутствие зла в мире. Нельзя винить Бога за то, что Он не устранил зло, ибо Он не мог бы и устранить зло, и добиться развития душ, а ведь ни от кого нельзя требовать невозможного.
Значимость теодицей. Апологетика. Первичная значимость теодицей состоит в том, что многие из них решают проблему зла в пределах соответствующих теологий. Как правило, возражения против теодицеи основываются на внешних причинах, т.е. критик отвергает интеллектуальные предпосылки данной системы. Такие возражения не связаны с самой проблемой зла, ибо она всегда остается в пределах внутрисистемной последовательности. Теодицеи, изложенные выше, обеспечивают внутреннюю последовательность соответствующих теологий и тем самым решают проблему зла. Атеисты ошибаются, полагая, что все теистические системы безнадежно иррациональны, поскольку содержат внутренние противоречия при рассмотрении данной проблемы. Нередко говорят, что ни один теист не может решить проблему зла, и ошибаются- многим теистам это удалось. Действия Бога вполне можно оправдать, теист не обязан признавать свою позицию иррациональной изза проблемы зла.
Интеллектуальная ясность. Тот, кто формулирует теодицею, должен ясно представлять себе интеллектуальную базу своей теологии. Всякая теология включает определенные взгляды на Бога, зло и человеческую свободу. Чрезвычайно важно, чтобы теолог помнил, что он работает внутри обширной традиции христианского теизма (при этом он вполне может расходиться во взглядах с другими христианами).
Теодицея как человеческое творение. Отсюда вытекает и еще одно преимущество. Конечно, есть только один Бог, но Его описывают самые разнообразные теологии и теодицеи. Создание теодицей хорошо еще и тем, что оно помогает теологу осознать его собственную систему как лишь один из способов постичь Бога и мир. Теология верна настолько, насколько она соответствует реальности, но при этом она всегда останется человеческим творением. Всякий, кто отвергает теологию и теодицею, отвергает тем самым не Бога (если не считать, что данная теология или теодицея описывает Бога исчерпывающе и адекватно), а лишь человеческое представление о Боге и мире.
Внутренняя последовательность. Цель теодицеи - избежать внутренних противоречий, и всякий теист стремится освободить свою систему от таких противоречий, потенциальных или действительных. Однако нередко теолог создает лишь фрагментарную систему, так что одни его взгляды вступают в противоречие с другими. Автору теодицеи следует помнить, что теолог обязан мыслить не только аналитически, но и целостно и синтетически, чтобы избежать внутренних противоречий.
J.S. FEINBERG (пер. А. Г.) Библиография: M B. Ahern, The Problem of Evil; J.S. Feinberg, Theologies and Evil; P.T. Geach, Providence and Evil; J. Hick, Evil and the Cod of Love; G. W. Leibniz, Theodicy, tr. E.M. Huggard; J. L. Mac-kie. "Evil and Omnipotence", in Philosophy of Religion, ed. B. Mitchell; E. Madden and P. Hare, Evil and the Concept of God; M. Peterson, Evil and the Christian God; A. Plantinga, God, Freedom, and Evil.
См. также: Зла, проблема; Боль.
| |
В.С. Ольховский
Эта брошюра представляет собой введение в христианскую апологетику по трудной для многих людей теме добра и зла. Рассчитана она на христиан, а также на атеистов и не имеющих еще четкого мировоззрения студентов, интересующихся проблемами философии, теологии и этики.
Введение. Несомненная реальность зла и страдания. Уникальность проблемы зла.
Какими мы бы ни были оптимистами, мир далеко не всегда кажется нам самым радостным местом для жизни. Каждый из нас, кем бы он себя ни считал – христианином, теистом, деистом, атеистом, мистиком или нигилистом, несет бремя страданий и сталкивается со злом. Бесполезно отрицать реальность зла, просто приписав его невежеству или иллюзиям. Гораздо чаще в жизни радость и добро, чем страдание и зло, являются иллюзией! Почти для всех людей (кроме сторонников той философии, в которой все видимое – иллюзия) существование зла не подлежит сомнению.
С другой стороны, есть и такие верования, организации, оккультные и сатанинские секты, где служат, поклоняются и приносят жертвы (иногда даже человеческие!) силам зла.
Мы должны встречать зло с открытым лицом. Христианство не игнорирует и не романтизирует зло. Оно утверждает, что человек живет в падшем мире, а это говорит о том, что зло – часть нынешних человеческих переживаний. Почти все книги Библии в той или иной мере говорят о зле, с которым сталкивается человек. А одна книга Ветхого Завета, книга Иова, почти полностью посвящена проблеме зла. И в нашей жизни почти каждый день мы слышим о человеческих бедах и несчастьях. Кругом войны, нищета, болезни и преступления, страдания и смерть.
В ряде толковых и энциклопедических словарях (английских, итальянских и русских [см., напр., Словарь русского языка, издательство АН СССР: институт языкознания, М., 1957, т.1, а также Толковый словарь русского языка, изд-во «Сов. энциклопедия», М., 1934, т.1]
) зло определяется как:
1) все дурное, плохое, вредное, греховное;
2) беда, напасть, несчастье, неприятность и т.д.
В «Энциклопедическом словаре» Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона (С.-П., 1894, т.XIIA ) приведено определение В.С. Соловьева: «Зло – в широком смысле этот термин относится ко всему, что получает от нас отрицательную оценку, или порицается нами с какой-нибудь стороны; в этом смысле и ложь, и безобразие подходят под понятие зла. В более тесном смысле зло обозначает страдания живых существ и нарушения ими нравственного порядка.». Зло, о котором упоминается в Библии и которое наблюдается в каждодневной жизни, многие богословы подразделяют на несколько категорий: духовное, или моральное зло (грех), физическое зло (боль, страдание), природное зло (землетрясения, пожары, наводнения, пандемии и т.д.). Иногда говорят о т.н. метафизическом зле (по сути это та часть природного зла, которая обусловлена конечностью мира и наличием естественных законов). Во избежание неясностей мы будем в тех случаях, когда категория зла явно не оговаривается, подразумевать под злом именно моральное зло (грех), а для второй категории попросту употреблять слово страдание.
Беспокоит нас не только и не столько страдание, сколько его масштабы – то, что философы часто называют бессмысленным злом. В определенном смысле можно как-то оправдать всякое страдание – но уж слишком его много! Как возмущают нашу душу страдания и смерть множества невиновных, уносимых за раз войнами, массовыми репрессиями тоталитарных режимов и стихийными бедствиями. Как объяснить все это!? А Holocaust (убийство миллионов евреев нацистами во время второй мировой войны) кардинально изменил представления о способности людей ко злу: как далеко ушли некоторые человеческие существа от того человека, который был сотворен по образу и подобию Божьему!? Это один из самых страшных примеров морального зла.
Как же Бог допускает грех, мучения, боль и горе?
Иногда зло кажется нам результатом просто неправильного выбора не нас самих, а других людей. И тогда мы хотим застраховать себя от ошибок и злодеяний других, наказать их за неправильные действия. Но мы члены одной человеческой семьи, мы носим бремена друг друга. Мы не понимаем нашей связи с остальным человечеством. Более того, с развитием цивилизации (успехов технологии, роста массовых организаций и тоталитарных политических идеологий) сейчас человеческие страдания только усугубляются все новыми возможностями приносить страдания друг другу, а также обезличиванием структуры современного общества. И реакция многих наших современников на земле – предаться циничной покорности судьбе или безнадежному отчаянию, психотерапии, наркотикам, алкоголю или простому отречению от жизни.
Размах и сила глобального и личного страдания призывают к ответу той же глубины, реализма и космического размаха. Одни христиане видят в этом проблему, другие – нет. В конце концов, Благая Весть, которая содержится в Новом Завете, состоит именно в том, что каждый человек имеет реальную возможность спасения и освобождения от всякого зла и страдания в единстве с всемогущим и всеблагим Богом.
И тем не менее, для христиан – в первую очередь, ученых, апологетов, теологов, миссионеров, душепопечителей – эта проблема является важной по характеру их работы и служения – и многие считают ее самой серьезной и уникальной по своей значимости.
Уникальная значимость проблемы зла и страдания объясняется, во-первых, универсальностью зла и страдания (каждый без исключения человек на земле, и плохой и хороший, сталкивается со злом и страданием), во-вторых, их реальностью и глубоким проникновением в жизнь – вплоть до слов, сказанных Христом на Кресте: «Или, Или! Лама савахфани? (Боже Мой, Боже Мой! для чего Ты Меня оставил?)». И в-третьих, именно она представляет собой аргумент N1 атеизма против веры в существование Бога Библии – аргумента такой силы, что он часто используется атеистами как прямое логическое доказательство того, что всемогущий и всеблагой Бог не существует!
Все мировоззрения и религии имеют свое объяснение наличия зла и страдания, и по любым стандартам существование зла и страдания – это проблема. Фактически эта проблема составляет две группы проблем, одна из которых теоретическая (теологическая), а другая – группа практических проблем при реальных столкновениях со злом в разных обличьях.
Теоретически проблема зла особенно затрагивает тех, кто утверждает, что Бог существует, что Он сотворил мир, и что Он любящий и справедливый. Могут ли христиане придерживаться этого представления о Боге и вместе с тем признавать реальность зла? Или же существование зла говорит против существования Бога в том Его понимании, которое позволяет принимать библейское учение о Боге?
С первого взгляда кажется, что если Бог создал все, тогда каким-то образом Он должен нести ответственность за зло. А если Бог отвечает за зло, то Он становится злым Богом, а это противоречит самому определению Бога. Если, с другой стороны, Он не несет ответственности за зло, страдание и грех, тогда кто же несет? Если же у Бога нет силы прекратить зло, страдание и грех, тогда Бог не всемогущ и существует кто-то или что-то более значительное чем Бог, и сотворившее зло. Ответить на эти вопросы не просто. В то же время ясно, что Библия не игнорирует проблемы зла и, более того, в учении Библии существование зла никоим образом не идет вразрез с представлением о существовании всеблагого и всемогущего Бога.
Ниже мы кратко, не претендуя даже на приблизительную полноту освещения всего комплекса проблем зла (греха и страдания) во всех известных богословских течениях и системах, рассмотрим, как эти вопросы освещаются в христианском богословии. И мы также рассмотрим ряд практически важных для христиан вопросов:
Что говорит Библия об отношении Бога ко злу, греху и грешникам, к страданию?
Какие принципы отношения ко злу и страданию должны быть у христиан (и что говорится об этом в Библии)?
Являются ли часто встречающиеся дилеммы неизбежного выбора из двух зол реальными или иллюзорными (надуманными) и допустимы ли для христиан сознательные компромиссы (выбор наименьшего зла, т.е., в конце концов, греха), когда они сталкиваются с такими дилеммами?
Проблема теодицеи: ее суть и логическая формулировка.
Богословско-философские доктрины, имеющие целью согласовать идею благого Божьего промысла о мире с наличием в мире зла, получили общее название «теодицея». (Термин введен христианским ученым Г.В. Лейбницем в 1710 г., а сама проблема теодицеи ставилась ранее, например, Мальбраншем и даже в древности, например, Эпикуром). Суть проблемы теодицеи (дословно Бог – справедливость, т.е. проблемы «оправдания Бога») состоит именно в следующем: как совместить наличие в мире зла с представлением о том, что мир сотворен и направляется всемогущим и всеблагим Богом?
Один из вариантов логической формулировки тедицеи можно сформулировать так: На первый взгляд, существует внутреннее логическое противоречие в совместном принятии следующих четырех посылок:
Бог существует.
Бог всеблагой.
Бог всемогущ.
Зло существует.
Если принять любые три из них, то по всей видимости следует отбросить четвертую.
Если Бог существует, желает всеобщего добра и достаточно могуществен, чтобы достичь всего, чего желает, то зла не должно быть.
Если Бог существует и желает только добра, но зло существует, то Бог не достигает всего, чего желает. Значит, Он не всемогущ.
Если Бог существует и всемогущ и зло также существует, то Бог желает существования зла. Значит, Он не всеблагой.
Наконец, если «Бог» – это существо, которое и всемогуще и всеблагое, и тем не менее зло существует, то такой Бог не существует.
Пять возможных решений так логически сформулированной теодицеи:
Атеизм
– отрицание посылки 1 (т.е. «Бог существует»).
Пантеизм
– отрицание посылки 2 (т.е. «Бог всеблагой»).
Древний политеизм и современный деизм
оба отрицают посылку 3 (т.е. «Бог всемогущ»). Древний политеизм ограничил могущество Бога расщеплением Бога во множество маленьких божков, одних добрых, других злых. Некоторые течения современного деизма делают по сути то же, но в другой форме, сводя Бога к существу, живущему во времени и подверженному несовершенству, развитию, и обладающему лишь ограниченной силой.
Идеализм
– отрицание реального зла. Он проявляется в разных формах (Адвайта Индуизма, т.н. «Христианская Наука» М.Бейкер Эдди, множество течений Новой Эры), и все они утверждают, что зло – это иллюзия непросветленного человеческого сознания.
Наконец, библейский теизм (ортодоксальное христианство, иудаизм, ислам)
признает все четыре посылки и отрицает наличие логического противоречия между ними. Это может иметь место, если и только если в них есть неоднозначные или нечетко определенные термины.
Мы ниже проведем анализ терминов добро, зло, всемогущество, свобода воли и других и выясним неоднозначность их использования в разных мировоззрениях. И это позволит выяснить, что проблема зла как таковая, как абсолютная и независимая от мировоззрения и личности человека, не существует. Проблема эта существует только в тех богословских и философских системах, где есть логическое противоречие. Мы увидим, что христианское мировоззрение является внутренне самосогласованным и в нем (при всем различии имеющихся богословских течений) такого противоречия нет. В то же время легко увидеть, что наличие противоречий в нехристианских мировоззрениях: например, в атеизме имеется логическое противоречие, связанное с отсутствием абсолютных критериев распознания зла! Оно в свое время было выдвинуто, в частности, К. Льюисом в качестве аргумента против своей прежней натуралистической позиции. Как могут атеисты ставить под сомнение существование Творца на основании наличия в мире страдания и зла? Ведь атеисты по сути не признают существование каких-либо абсолютных стандартов добра и зла. А при отсутствии нравственных абсолютов даже явное присутствие мучительных страданий не является чем-то неправильным или несправедливым. Иначе говоря, хотя страдание – это не иллюзия, а реальность, эта реальность не имеет никакого отношения к нравственности. И тогда возражения атеистов относительно страданий в мире сводятся к личному недовольству отдельными сторонами действительности, и не более того. Вот что говорит К.Льюис, вспоминая тот период, когда он еще был атеистом: Мой довод против существования Бога заключался в том, что мир жесток и несправедлив. Но откуда у меня взялись эти понятия справедливого и несправедливого? Человек не станет называть линию кривой, если у него нет представления о прямой линии. Если вся машина мироздания целиком и полностью дурна и бессмысленна, то почему я, являясь ее частью, испытываю такое сильное возмущение и сопротивляюсь? Упав в воду, человек чувствует себя мокрым, потому что он человек, а не водяное животное; рыба не чувствует себя мокрой. Я, конечно, мог бы отказаться от своего понимания справедливости, сказав, что таково мое личное мнение. Но тогда рухнул бы и мой довод против существования Бога, поскольку он вытекает из убеждения, что мир действительно несправедлив, а не просто не соответствует моим личным вкусам. И как бы мог атеист отреагировать на этот довод, «играя на своем поле»? Только допуская существование абсолютного стандарта, позволяющего различать объективное зло. Но тогда встает вопрос и о таком внутреннем противоречии атеизма: существование абсолютных,объективных критериев нравственности нельзя считать результатом случайной эволюции во вселенной, которая к тому же и сама возникла по воле случая.
В христианской философии, по-видимому, первый известный анализ общей проблемы теодицеи (даже без достаточно полного разбора природы и смысла понятий добра и зла) был проведен Мальбраншем и Лейбницем. Приведем итоги этого анализа, следуя статье Н. в известном Энциклопедическом Словаре Брокгауза и Ефрона: По взгляду Мальбранша, Бог действовал в создании мира свободно, т.е. мог как творить, так и не творить его. Если воля Бога склонилась к акту творчества, то этому была какая-нибудь цель. Но мир, как он ни велик, перед Богом ничто, и следовательно, сам по себе не содержит достаточного мотива для определения Божественной воли. Мир может быть целью для Бога лишь в том, что Божественно в самом мире, т.е. в церкви, созидаемой ее главою Иисусом Христом, через которого люди входят в общение с Богом и становятся сопричастными Его целям. Мир существует для людей, люди – через Иисуса Христа для Бога. Будучи, таким образом, лишь средством для целей Божественной благодати, естественный порядок мира должен быть наивозможно лучше приспособлен для этой цели, и в этом смысле существующий мир должен быть наилучшим из возможных миров. Лейбниц также признает, что Бог свободен творить мир или не творить его; но так как Бог делает всегда наилучшее, то воспользоваться такою свободою Он мог бы лишь в том случае, если бы небытие мира не было лучше его бытия. Итак, уже a priori из понятия творческого акта Бога следует, что существующий мир есть наилучший возможный из миров. Тем не менее, в нем появилось зло. Мы не имеем права признавать цель мира исключительно в благе человеческом, но должны представлять ее, как объемлющую все мироустройство; сказать же, что мироустройство без страдания и греха во всяком случае лучше, чем с их присутствием в мире, нет основания, так как частное зло в этих отношениях может служить в общем плане мира средством более великого блага, чем то было бы при других условиях. Бог не хочет страдания и греха, но, создав наилучший мир, Он допускает в нем всю ту их меру, которая неизбежна для осуществления плана этого наисовершеннейшего мира. Лучше даже, чтобы был грешник и, добровольно желая остаться без Бога, сам обрекал себя за грехи на вечную кару, чем мир, в общем, был бы менее совершенен, чем должен быть. При этом следует иметь в виду, что все подобные обсуждения пути Божьего неизбежно антропоморфны и несовершенны, т.е. задача нашей собственной мыслью примирить факт существования зла с убеждением в разумно-нравственном достоинстве мира – в полной мере для нас непосильна. Признавая Бога сверхвременным, сверхпространственным, сверхсознательным, всеблагим и всемогущественным, мы вполне можем сохранять философскую веру в то, что такое примирение действительно есть.
Природа и смысл понятий добро и зло, счастье, свобода воли, всемогущество .
Рассмотрим категории добра и зла в разных мировоззрениях и философских подходах. По определению, данному в современных философских (небиблейских) энциклопедиях, это основные категории этики, употребляемые при нравственных оценках общественных явлений, поступков людей и мотивов деятельности. Добро обозначает совокупность положительно оцениваемых отдельным человеком или общностью людей условий жизни, норм поведения и нравственных действий. Зло обозначает отрицательные явления в личной и общественной жизни человека, составляющие предмет нравственного осуждения, обличения и порицания. Т.е. эти определения по сути не абсолютны, а относительны и субъективны, поскольку не абсолютны, а относительны и изменчивы мнения отдельного человека и любой общности людей на каждом этапе их развития.
В человеческой истории, начиная с древнейших времен, прослеживается несколько (по крайней мере, пять) тенденций в понимании сути добра и зла:
(1) утилитаристско-материалистическая, ориентированная на преходящие ценности материального мира и связывающая понятия добра и зла с человеческими потребностями и интересами;
(2) дуалистическая религиозно-философская мифологема (зороастризм, манихейство, по сути гностицизм, деизм, политеизм и др.); согласно которой мир – арена борьбы более или менее «равносильных» начал добра и зла;
(3-4) две пантеистические религиозно-философские ориентации: (3) зло по сути отрицается как иллюзия (индуизм, йога, «христианская наука» Мери Бейкер Эдди), (4) или, наоборот, считается основой человеческого существования (буддизм, философия Шопенгауэра, экзистенциализм);
(5) монотеистическая религиозная ориентация на высшие непреходящие ценности, выводящая понятия добра и зла из заповедей (откровения) Бога. Во всех этих мировоззрениях понимание добра и зла входит прямо в основы их учений.
Рассмотрим вначале утилитаристско-материалистическую тенденцию. Древнеиндийские материалисты (чарваки) видели добро в отсутствии страдания и в достижении чувственных удовольствий, материалисты древнего Китая (Ян Чжу и др.) понимали добро как реализацию человеком его природных склонностей, материалисты древней Греции (гедонисты, эвдемонисты и др.) рассматривали добро как удовлетворение естественных потребностей человека. Соответственно зло усматривалось в наличии страдания, в препятствиях к достижению чувственных удовольствий, к реализации природных склонностей и к удовлетворению естественных потребностей человека. Конкретнее, согласно учению гедонизма, все поступки всех людей совершаются ради достижения подлинной цели – переживания удовольствия и избежания страдания. Но если для гедонистов целью поведения служат единичные удовольствия, то согласно эвдемонизму, конечная цель поведения есть счастье как система жизни, в которой совокупность удовольствий перевешивает страдания (пример: система Эпикура). Распространенная разновидность эвдемонизма есть утилитаризм – система этики, сосредоточивающая внимание на средствах достижения счастья (на том, что полезно для достижения благополучия).
В философии прагматизма добро отождествляется с личной пользой, с успехом. Соответственно зло отождествляется с личными неудачами и с тем, что препятствует достижению пользы и успеха.
Французские материалисты – «просветители» Вольтер, Гельвеций, Дидро и др. (18в.) провозгласили интересы человеческой личности основным критерием различения добра и зла. Отождествляя добро с пользой, они считали, что каждый человек стремится к добру. По их мнению, основная причина зла – невежество, неравенство, неправильное воспитание. А установление разумного законодательства приведет к устранению зла и торжеству добра.
Все это в той или иной мере характерно и для современного атеизма. Как атеист объясняет проблему страдания? Он более всего обвиняет других людей и общественные учреждения в том, что человек встречает зло в жизни. При этом одни считают, что человеку достаточно пользоваться своим разумом и искать решения своих проблем. Другие видят надежду на лучшее завтра для человечества только в технологическом прогрессе и достижениях цивилизации (в последнее время с учетом экологических последствий). Третьи считают, что нужно изменить методы просвещения, политические теории, общественные проекты. Именно это стало исходной посылкой марксизма-ленинизма, согласно которому «нравственность подчинена интересам классовой борьбы пролетариата… Нравственность это то, что служит разрушению старого эксплуататорского общества и объединению всех трудящихся вокруг пролетариата, созидающего новое общество коммунистов» (В.И.Ленин, Полное собр. соч., т.31, с.267, 268). Но как показал опыт бывшего Советского Союза и других тоталитарных систем (фашизма, нацизма,…), человечество может таким образом попасть в абсурдную ситуацию, которая вместо уменьшения страданий и несправедливостей их увеличивает. Без понятия Божьей истины и нравственных принципов человек остается нравственно испорченным и неограниченным своевольником.
Определенное влияние общества на отдельную человеческую личность несомненно. Но с типичными для всех атеистов относительностью разграничения зла и добра и релятивизмом нравственности согласиться никак нельзя, ибо они закрывают глаза людям на абсолютность зла. И противоречат опыту: грандиозным проявлениям зла (инквизиции, коммунизма, нацизма и т.д.). Разграничение Добра и зла абсолютно! И хотя деяния агентов зла могут приводить к добрым последствиям, такое случается вопреки их стремлениям и желаниям.
И атеизм, и материалистическая философия не видят, что источник зла скорее в области духа, чем природы. И не видят, что за бедностью и неравенством, нищетой и несправедливостью лежит неверие, разорванное отношение человека с Богом.
Пантеисты явно или неявно полагают, что все существующее составляет то, что мы называем «Бог» (который является безличностным богом). В пантеистических философских системах либо злу придается абсолютное значение, либо зло (само по себе или вместе со всей действительностью) носит иллюзорный характер.
Индуисты, джайнисты, приверженцы «христианской науки» (основанной в США Мери Бейкер Эдди) считают, что физический мир нереален, иллюзорен (майя) и Единственная реальность – Бог (Брахма). Если это так, то нет смысла говорить о добре и зле. Называя явления хорошими или плохими, мы показываем, в какой мере живем иллюзией, особенно когда называем страдание злом.
Согласно индуизму и джайнизму, наши сегодняшние трудные моменты были определены в прежней жизни (цепочка рождений каждого человека в разных перевоплощениях идет под действием закона кармы до тех пор, пока человеческая душа не очистится от иллюзии). Как освободиться от страдания? Духовным просветлением, т.е. размышлением и возвращением души в состояние единства сознания – нирваны, где душа теряет индивидуальное самосознание навсегда и поглощается брахманом. Это совершается методами йоги: медитацией, приобретением знания и усердной работой. Однако на практике мы ощущаем боль и никакие умствования не позволяют полностью оторваться от вопроса: почему (ради чего) я страдаю? И вместо того, чтобы помочь страдальцу, такие объяснения не дают ему никакой надежды, что выйдет к лучшему, и могут привести либо к борьбе его со злом, либо к депрессии, а иногда к самоубийству.
Согласно религии буддизма, зло коренится в самом существовании человека. Избежать его можно путем отшельничества, устранения от мирских дел и желаний, аскетическим образом жизни. Окончательное освобождение от зла после ряда перевоплощений достигается путем погружения в нирвану.
Не евангельская «христианская наука» настаивает на том, что зло нереально, грех и страдание – иллюзия смертного ума. Бог – это добро, разум (безличностный!) – и следовательно, все, что связано с разумом – хорошо, а материя нереальна и соответственно болезнь, грех, смерть и любое зло также нереальны. А чувство – источник ошибки и поэтому источник зла. То, что мы ощущаем как болезнь, – вызывается ложной верой, нежеланием признать нереальность болезни. И поэтому исцеление якобы достигается не медицинскими средствами, а через знание истины. Если же боль и болезнь признаются нереальными, то они уже не действуют на личность. Смерть тоже нереальна, и если она происходит, то ее следует считать указанием того, что люди не практикуют полностью истину «христианской науки».
Иисус Христос, согласно «христианской науке», пришел искать и спасать тех, кто примет реальность Божественного ума. Все Его служение состояло в освобождении людей от ложной веры в реальность материи, включая болезнь и зло. Такой взгляд на зло явно ущербен: прежде всего, нет ни одного факта, свидетельствующего, что деятели «христианской науки» не болеют и не умирают! А также ни одного факта отсутствия и других видов зла. И если зло – иллюзия, то почему все без исключения люди со дня рождения подвержены злу? Если же Бог есть «все во всем» (как они говорят), откуда тогда приходит «иллюзия зла»?
Положительные моменты «христианской науки» – в признании власти мысли над материей, ума над телом, в возвышенной идее Бога.
Для Шопенгауэра сама жизнь есть зло и страдание, от которого человек не Может освободиться: зло порождается чрезмерно сильным слепым потоком Иррациональной воли и вызываемыми им бесконечными желаниями, которые не могут Быть удовлетворены и обусловливают в конечном счете боль и страдание, которые в принципе не устранимы. Для экзистенциализма характерно признание абсолютным значение зла и отрицание добра в мире. Зло необходимо сопутствует человеческому существованию, Постижение же зла невозможно, так как оно иррационально и является предметом не знания, а веры. В дуалистических религиозно-философских системах добро и зло сосуществуют изначально как два абсолютных равноценных начала «бог благой» и «бог злой». Они через своих слуг борются друг с другом. Бывают моменты, когда «благой бог» проигрывает, а «злой бог» выигрывает. Согласно древней религии зороастризма, злое начало воплотилось в божество Анхра-Майнью, сознательно борющееся против доброго начала – Ормузда. Другая классическая форма космического дуализма – манихейство (философская система персидского пророка Мани в 3 в. до н.э.), в которой зло (мрак) и добро (свет) существуют как два независимых первичных принципа вечно. Дуализм добра и зла характерен и для религиозных представлений древних германцев, согласно которым вселенная произошла в результате борьбы сил света и тьмы.
Противопоставление добра и зла, признание материи как порождения злого начала, характерно для гностицизма. Гностицизм – религиозно-философское течение, возникшее в 1-2 вв. на почве сочетания христианства и пантеистических конструкций языческих религий. В основе гностицизма лежит мистическое учение о знании, достигаемом путем откровения и указывающем человеку путь к спасению. Источником материи является Демиург (безличностное божество). Борьба греховной, отягощенной злом материи с божественными проявлениями первоначала составляет суть мирового процесса. Учению об этом мировом процессе соответствует этическая система гностицизма, согласно которой задачей человеческого духа является искупление, достижение спасения, стремление вырваться из уз греховного материального мира. Эти цели достигаются посредством аскетического образа жизни и философского познания. В гностицизме зло лежит в сопротивлении хаотической материи чистому духу, скованному материей, в непокорности и дефективности человеческой плоти, а не в агрессивности мятежа воли человека, оторванной от воли Бога.
Любопытно рассмотрение понятий добра и зла в философиях Конфуция, Сократа, Платона, Гоббса, Спинозы, Руссо, Канта и Ницше.
В философии Сократа (ок. 470-399 гг. до н.э.) зло является случайностью, которую человек совершает по незнанию, путая добро со злом. Средством против зла Сократ считал знание. По Платону, добро и зло одинаково реальны. При этом добро относится к миру идей, а зло – ко всему чувственному, видимому, изменчивому.
Рационалисты Гоббс и Спиноза (17 в.) считали, что вне человеческого познания нет, не существует никакого добра и никакого зла, что эти понятия образуются при сравнении людьми вещей и явлений друг с другом.
Любопытна общность интерпретации зла в мире человека в учениях Конфуция, Руссо и Маркса, согласно которым единый (или, по крайней мере, главный) источник зла – социальное происхождение. Конфуций (6 в. до н.э.), объясняя в основном возникновение зла из деятельности человека в обществе, не нашел в самой природе человека никакого глубинного зла, которое не могло бы быть устранено надлежащим воспитанием и семейной дисциплиной. По его мнению, правильно обработанная человеческая природа может сама «очиститься» и разумно работать по преодолению всех социальных видов зла в своем поколении. Ученики Конфуция (например, Менций) вообще находили спасение попросту в хороших манерах, хорошем примере и хорошем правительстве.
И Руссо (18 в.) считал человечество внутренне хорошим, а зло приписывал коррумпирующему влиянию общества. Позднее Маркс, по сути развивая эту идею, уже нашел источник мирового конфликта в классовой борьбе.
Согласно Канту (конец 18 в.), человек обладает двойственной природой: как разумное, познающее существо он принадлежит царству свободы, однако как чувствующее существо, включенное в сферу действия законов необходимости, он подвержен слабостям, испорченности и т.д. Поэтому в мире явлений существует «вечное зло», которое может быть преодолено только воспитанием, культурой, религией и моралью. Законы последней он считал по сути абсолютными и назвал их категорическими императивами. Выполнение категорического императива означает, по Канту, победу нравственной воли над злом. Для Ницше (19 в.) представление о добре и зле характеризуют лишь «мораль рабов». Сверхчеловек не испытывает никакого зла и вообще стоит «по ту сторону добра и зла». Однако, пытаясь встать по ту сторону морали и обосновать имморализм, Ницше, как и во всей своей философии, впал во внутреннее противоречие и фактически выступил в качестве провозвестника «новой» морали «сверхчеловека».
Рассмотрим теперь монотеистические подходы. Твердую опору в представлениях о добре и зле обеспечивает вера в Бога и Его заповеди. Если этой веры нет, то логически неизбежна относительность нравственности (вспомним известный аргумент К.Льюиса). Ветхозаветная религия евреев (существовавшая до пришествия Иисуса Христа) после того, как иудейские священники и учители отвергли в трагическом заблуждении пришедшего Мессию Господа Иисуса Христа, на Котором исполнились ветхозаветные мессианские пророчества, приняла форму иудаизма. Иудаизм сохранил во многом внешнюю формальную сторону ветхозаветной религии, но Отвержением Мессии исказил ее существо. Учение о добре и зле в «законе» (Пятикнижии) по сути не выходит за рамки идеала чисто земного благополучия. Имеются только отдельные пророчества о посмертной участи праведников и нечестивых (напр., ; Исайя, 66;24).
Как отвечают на вопрос о зле и страдании мусульмане? Они верят в единого Бога-Аллаха. И просто говорят, что все зависит от воли Аллаха. Когда Он хочет, чтобы мы страдали, то так и получается. Нужно терпеть и не жаловаться, и все. Бог желает и определяет полностью добро и зло (– полный детерминизм). Такое понимание называется фатализмом. Оно отнимает от Бога качество совершенной доброты в отношении к человеку. Христиане с фатализмом не соглашаются.
Как же понимают добро и зло христиане? Во всяком случае, мировое зло Не есть сумма страданий, а мировое добро не есть сумма удовольствий. И в то же время, и добро и зло – объективная реальность, не иллюзия!
Для христиан абсолютным высшим Добром является Бог , т.е. Добро – это Не только нравственное понятие, а в первую очередь существует (метафизически и онтологически). То, что вкладывает Бог в мир, – смысл, гармония, красота и благо (конкретное добро), – производное от Бога. Все бытие – это или Творец, или Его творение. И не только Творец – это Добро, но и все Его творение Он объявил хорошим, т.е. добром (Бытие,1).
А зло, согласно Августину, не существует само по себе ни метафизически, ни онтологически. Зло – это ни бытие, ни сущность, ни существо, ни вещь, ни предмет. Если бы зло было бытием, проблема зла была бы неразрешимой, так как Бог был бы не всеблагим, если бы Он сотворил его, или Бог был бы не всемогущим, если бы оно было сотворено не Богом. Тогда где же зло? Зло – это недостаток или порча добра. Если Добро может быть без зла, то зло без добра (и более того, кроме как в самом добре – как порча, недостаток, уменьшение добра) существовать не может. Вот как рассуждает Августин: Что же иное называется злом, как не недостаток добра? Как в телах живых существ болезни и раны вызывают только недостаток здоровья (и само лечение призвано не к тому, чтобы вошедшее в организм зло перевести в какое-нибудь другое место, но чтобы истребить его совсем…), так существуют и различные виды повреждения души, бывает лишение природного добра; при выздоровлении то лишение никуда не переносится, ибо может если где-то и быть, то только в самом здоровье… Добро [во всех творениях] может уменьшаться и возрастать. Уменьшение же добра есть зло… Поэтому не было бы совсем того, что называется злом, если бы не было никакого добра. Добро, лишенное всякого зла, есть чистое добро, то же добро, в котором находится зло – испорченное или худое добро; там же, где нет никакого добра, там не может быть и какого-либо зла… Причина …зла – в воле изменяемого (сотворенного) добра, отступающей от добра неизменного (несотворенного), сначала в воле ангела, потом и человека.
А вот как рассуждает русский богослов Н.А.Бердяев: «Зло есть отпадение от абсолютного бытия, совершенное актом свободы… Зло есть творение, обоготворившее себя. …Древний змий соблазнял людей тем, что они будут как боги, если пойдут за ним; он соблазнял людей высокой целью, имевшей обличие добра, – знанием и свободой, богатством и счастьем… Несомненное зло мира – убийство, насилие, порабощение, злоба и т.п. – это уже последствия начального зла, которое соблазняло обличием добра. Будьте как боги – в этом нет ничего дурного; цель эта поистине религиозна и божественна; ее Бог поставил перед людьми, возжелал, чтобы они были подобны Ему. …Никакой своей цели, своего нового бытия дух зла не мог выдумать, так как вся полнота бытия заключена в Боге; выдумка его могла быть лишь ложью,…лишь карикатурой. Соблазн змииного, люциферианского знания не потому греховен, что знание греховно, а потому, что соблазн этот есть незнание, так как знание абсолютное дается лишь слиянием с Богом. …Вступив на путь зла, люди стали не богами, а зверями, не свободными, а рабами, попали во власть закона смерти и страдания. Все манящие обещания зла оказались ложью, обманом… Путь зла есть погоня за призраком призрачными средствами, есть подмена, подделка, превращение бытия в фикцию».
Зло появляется тогда, когда существо противится Богу. Зло – это нравственное понятие. Зло – в той воле, в том выборе, в том намерении, в том движении души, которые вносят искажения установленного Богом порядка в физическом мире вещей и действий, удаляют существа от Бога и ведут к отпадению от Него. Не Бог делает зло, а мы (см. и 3). Зло среди людей появилось, когда вместо деятельности по образу и подобию Бога, первые люди отделили себя от Бога и захотели сами стать богами. А это привело, в свою очередь, к их отделению от природы, друг от друга и разделению внутри каждого человека.Образ Бога был разбит на всех уровнях (нравственно,интеллектуально, психологически, социологически…). И именно большая часть страданий произошла и происходит от отделения от Бога, от природы, друг от друга и разделения внутри самих себя: это естественные и справедливые следствия нарушения воли Бога.
Зло не субъективно, это не фантазия и не иллюзия. Потому, что если бы оно было иллюзией, то тот факт,что мы боимся этой иллюзии, должен был бы быть реальным злом. Как сказал Августин, «таким образом, или зло, которого мы боимся, реально, или факт, что мы боимся его, есть зло».
Следует учитывать вре`менный, преходящий характер зла: Библия говорит о прошлом, когда на земле не было зла, а также о будущем, когда зла на земле не будет. Зло действует по иным принципам, чем Добро. [Декабрист Н.И.Тургенев писал в письме к П.Я.Чаадаеву: «Зло, чтоб не погибнуть, должно, так сказать, быть осуществлено, в одной мысли оно жить не может; добро же, напротив того, живет, не умирая, даже и в свободной идее, независимо от власти человеческой» (П.Я.Чаадаев,Полное собр.соч.,т.2, М.,1991, с.414). А вот что писал в словах патера Брауна в «Летучих звездах»: «Можно держаться на одном и том же уровне добра, но никому никогда не удавалось удержаться на одном уровне зла. Этот путь ведет под гору»]. Если добро в принципе абсолютно и статично (не меняется, пока стоит мир), то зло должно постоянно разнообразиться в пространстве и времени, «развиваться». Зло должно быть «увлекательно» – «увлекательностью» порока, преступления, взбесившейся гордыни.
Часто имеет место путаница в различении духовного (морального) и физического зла, т.е. зла, за которое мы прямо ответственны, и зла, за которое мы не ответственны,или греха и страдания, или зла, которое мы активно совершаем, и зла, от которого мы пассивно страдаем, или зла, которого мы добровольно хотим, и зла, которое совершается против нашей воли. И требуются два различных объяснения этих двух различных видов зла, – требуется разъяснение причин их и исцелений от них обоих. Происхождение греха – свободная воля человека. Непосредственный источник страдания (боли) – природа, или скорее отношение между нами и природой. Боль возникает тогда, когда мы становимся тем, чем мы быть не можем и не должны.
Таким образом, хотя Бог не ответствен за грех, но за страдание на первый взгляд кажется ответственным. Если только происхождение страдания не восходит также ко греху. Об этом-то и говорит история в Бытии (гл.3): она рассказывает нам, без разъяснения как, что тернии и сорняки, пот на лбу и боль деторождения – все это результат нашего греха. Вспомним принцип психосоматического единства души и тела, подтвержденный сотнями психологических школ. Из него прямо следует, что если душа отделяется грехом от Бога, то тело отделяется также и испытывает боль и смерть как неизбежные последствия греха. Духовная смерть (грех) и физическая смерть идут вместе. Это не новая мысль: она известна из Бытия (г.3).
Христианство более серьезно относится ко злу, чем большинство других мировоззрений, религий и верований. Даже к физическому злу. Христиане верят и в то, что материя сотворена Богом, и более того, что Он однажды воплотился в человеческом теле. Наши тела – это не иллюзии, не зло, не тривиальны, не мирские, и не вне нашей сути, нашего «я». Зло, которое мы совершаем, не только духовное, но также и физическое, телесное зло, ибо наши тела составляют часть нас самих. И поэтому то зло, что мы совершаем, – это также зло, которое испытывают и другие. Каждое зло подобно камню. брошенному в пруд и вызывающему волны, расходящиеся вовне к самым удаленным границам физической взаимосвязанности.
Есть еще одна причина физического зла, на первый взгляд не связанная с моральным злом, – это метафизическое зло, или та часть природного зла (землетрясения, пожары, наводнения, пандемии и т.д.), которая обусловлена конечностью мира и наличием естественных законов. Порядок, естественные законы являются первичным условием нормального развития человека как свободного существа, и они созданы Богом для достижения Им Своих целей в отношении человека и для выполнения человеком поставленных Им для него целей – и в этом смысле они, как и свободная воля человека, являются источником и благ, и зла (и греха, и страдания). Приведем рассуждения К.Льюиса о том, что даже Всемогущество не может создать общества свободных душ, не создавая при этом относительно независимой и «непреклонной» природы.
Во-1-х, по всей вероятности, самосознание (осознание себя) может существовать лишь по контрасту с «другими».Осознать свое «я» можно лишь на фоне окружения, особенно – общества других «я». Некоторых теистов это может поставить в тупик, но учение о Пресвятой Троице показывает нам, что некое подобие «общества» извечно и в Боге; мы знаем, что Бог есть любовь не только в платоновском смысле, но и в том, что в Нем взаимная любовь существует прежде всех миров и потом уже сообщается Его творениям.
Во-2-х, кроме того, свобода означает свободу выбора, а выбор предполагает, что есть из чего выбирать, есть предметы. В пустоте выбирать нечего; и потому свобода, как и самосознание (если они не одно и то же), предполагает существование чего-то иного чем ты сам.
В-3-х, если бы ваши желания и мысли шли ко мне прямо, как мои собственные, как бы я их отличил? Если вы христианин, вы можете ответить мне, что Бог (и дьявол) действует на наше сознание именно так, прямо. Да; и потому очень многие о них и не подозревают. Можно предполагать, что если бы души человеческие действовали друг на друга прямо и нематериально, то лишь очень сильная вера и очень большое прозрение убеждали бы нас в бытии нам подобных. Для существования человеческого общества необходима нейтральная (природная) среда. Она у нас и есть. Материя, разъединяющая души, и соединяет их. Благодаря ей вы можете не только быть, но и являться.
Итак, общество предполагает некое общее поле, среду. (И общество ангелов предполагает какую-то среду). Но если материя служит нейтральным полем (для нас), у нее должна быть своя определенная природа. Если бы в материальной системе обитало одно существо, она могла бы поминутно изменяться по его желанию. Но если ввести в такой мир и другое существо, оно уже действовать не сможет. Оно вряд ли даже смогло бы сообщить о себе тому, первому, потому, что вся материя была бы в чужой, а не в его власти.
Если же материя обладает определенной природой и подчиняется законам, то не все состояния материи будут приятны той или иной душе и одинаково благотворны для материального ее дополнения, называемого телом. Известно, что солнце, нужное для жизни на земле, может обжечь); огонь согревает, но и уничтожает; жизнь немыслима без воды, но вода и убивает; боль служит в конечном счете физиологическим предупреждением, чем оказывает нам большую услугу, но услугу болезненную; практически все естественные законы в природе способны привести и к хорошим, и к плохим результатам. Но и это еще не все. Еще менее возможно, чтобы материя мира была одинаково приятна каждому в каждый момент… (Желания наши, как правило, не совпадают)…Это совсем не зло: без этого не было бы всех тех уступок, жертв и подарков, без которых любви, доброте и деликатности не выразить себя. Но именно это открывает путь и величайшему злу – соперничеству и вражде. А поскольку души свободны, они вольны выбирать и вежливость, и соперничество. Выбравши же вражду, они могут использовать природу во вред другим. Природа дерева позволяет сделать из него и посох, и дубину. Природа материи вообще означает, что в сражении победу одержат более искусные, лучше вооруженные, превосходящие числом воины, даже если их цели и несправедливы. Некоторые полагают, что Бог мог бы вмешаться в ход естественных неблагоприятных для человека событий (например, вызывающих стихийные бедствия), чтобы либо пресечь зло до его появления, либо изменить существующие законы. [Кстати, возможно, так и было в Эдеме до грехопадения человека, и так будет в Новом Царстве после конца этого света.] Но ныне, в падшем мире, Бог такими своими чудесными вмешательствами по сути ограничивал бы свободу человека, которая зависит от стабильности порядка (законов) природы. Жесткие законы, причинно-следственные связи, весь природный порядок – это и рамки, в которых вписана жизнь наших душ, и непременные условия этой жизни. Попробуйте исключить отсюда ту возможность страдания, которую неизбежно порождают и природный порядок, и наличие свободных воль, – и вы увидите, что исключили саму жизнь.
Стабильность естественных законов обусловливает нашу способность рационального мышления, вычислений и предвидений, проведения аналогий (и на их основе построения полезных гипотез) и раскрытия причинно-следственных связей и тех же законов. Непредвидимые нами чудесные вмешательства могут только затруднить и даже уничтожить возможность осознанного выбора (т.е. свободной воли). Кстати, любопытно, что и в страданиях и смерти во время стихийных бедствий виноваты большей частью ошибки людей (неправильная конструкция домов и т.п.).
Таким образом, христианин видит во зле нечто большее чем дефект природы человека: зло состоит в борьбе души против Бога, а не в разделении человека на душу и тело. Человеческая проблема – не между духом и физической природой, не между знанием и невежеством. Она – между святым Богом и греховным, мятежным человечеством. Конфликт лежит в воле против воли.
Теперь – подробнее о добре (благе). Добро означает больше, чем доброта (добродушие, мягкость). Доброта – это стремление освободить любимое существо от боли. Иногда быть добрым – не значит быть добродушным (мягким). Это хорошо известно зубным врачам, хирургам, спортивным тренерам, учителям и родителям. Если бы добро означало только доброту, то Бог, который терпит боль в своих творениях, когда Он может отменить ее, не был бы всеблагим. Чем сильнее мы любим, тем более мы выходим за рамки мягкосердечия. Приведем ход рассуждений К.Льюиса о любви Бога к людям: Когда христианство говорит, что Бог любит человека, оно имеет в виду, что Бог человека любит, а не равнодушно желает ему счастья. Наш Господь – не благодушный старичок, разрешающий нам поразвлечься, и не холодный честолюбец, вроде совестливого судьи, не радушный хозяин, но огонь попаляющий, чья любовь упорна, как любовь к творению, жалостлива, как любовь к собаке, мудра и достойна, как любовь к сыну, ревнива, сильна и требовательна, как любовь к женщине. Ум не в силах понять и объяснить, почему создания столь ценны в очах Божиих. Бремя это, эту честь мы не можем вынести, мы даже хотим ее только в благодати. Итак, страдание людей нельзя примирить с бытием Бога-Любви лишь до тех пор, пока мы понимаем любовь в обычном, пошлом смысле и ставим человека во главу угла. Но человек – не центр. Бог существует не для него, и сам человек существует не для себя. Мы созданы не только для того, чтобы мы любили Бога, но чтобы Его любовь могла успокоиться нами Его любви противно и невыносимо многое в нас, и, поскольку Он все же нас любит, Он должен сделать нас достойными Своей любви. Бог стремится не к тому, что мы сейчас и здесь зовем «счастьем»; но, когда мы станем достойными Его любви, мы будем счастливы….Для нас есть две возможности: (1) уподобиться Богу в тварном ответе на Его любовь, (2) быть несчастными (испытывать вечный голод).
Мы часто неправильно понимаем благость Бога (всю яркость Его света) – и поэтому неправильно понимаем порочность зла (всю темноту нашего зла). Если бы сияла вся сила света Бога, то мы были бы в аду, ибо обнажилось бы то, что нам еще необходимо раскрыть. Чем больше мы познаем Бога, тем больше видим нашу порочность – и поэтому «слишком много» страдаем (Римл.,8:28-38).
Бог допускает страдание и лишает нас меньшего добра удовольствия, чтобы помочь нам в получении большего добра духовного развития. Даже древнегреческие язычники знали, что боги учили мудрости через страдание (вспомним Эсхила, Эврипида и Софокла).
Интересны выводы из анализа, проведенного В.А.Карпуниным по пониманию страдания как особо чувствительного для людей зла у разных мудрецов, философов и богословов, приемлемому и для христиан:
Страдание – беспорядок в мире, являющийся не более чем «теневой стороной» господствующего в мире порядка. Мир в данном случае можно сопоставить с картиной: с близкого расстояния (скажем, 5 мм) она представляется беспорядочным нагромождением пятен, а с большого расстояния (скажем, 5 м) – прекрасным изображением.
Страдание – одно из необходимых условий жизни. Каждое существо не может жить, не страдая, ибо страдание предупреждает о потребностях и об опасностях.
Страдание может пойти человеку на пользу и стать для него благом, если он сумеет им воспользоваться:
а) страдание – школа самопознания и личного воспитания, ибо никто досконально не знает себя самого, пока он не прошел через страдание;
б) страдание – школа братской любви: тот, кто сам страдал, научается понимать трудности других людей и приходить им на помощь;
в) страдание – школа смирения, мудрости и правды: оно открывает людям глаза на более глубокие перспективы и заставляет нас искать более глубокий смысл жизни, чем ранее, демонстрирует нашу сиюминутность и ограниченность в этом мире;
г) страдание – школа отрешенности (от всего мелочного и суетного).
Страдания наиболее праведных и невинных людей, обусловленные не личными грехами и не наследием первородного греха, имеют жертвенную природу.
Страдание каким-то таинственным образом перестает быть страданием, когда обнаруживается его смысл, Именно там, где мы беспомощны и лишены надежды, будучи не в состоянии изменить ситуацию, именно там мы призваны, ощущаем необходимость измениться самим. И тогда исчезает бессмысленность страдания.
Есть такой вопрос: Было бы необходимым страдание для нас, если бы мы не испытали грехопадения? Нужно ли было бы тогда страдание для роста мудрости? Мы не знаем ответа (хотя и подозреваем, что нет). Но знаем, что не Бог ответствен за такой путь. Он допускает только такое зло, которое может работать для большего добра для нас. Не все, что мы делаем, хорошо, но все, что Бог делает, хорошо!
А теперь рассмотрим термин «счастье» – и увидим тоже, как популярное, поверхностное значение слова «творит» проблему зла, а более глубокое, философское осмысление решает ее.
Поверхностное значение слова счастье обозначает обычно, во-1-х, субъективное чувство (вы чувствуете себя счастливым – и вы счастливы), во-2-х, это сиюминутное временное явление (чувства приходят и уходят, это же относится и к чувству счастья) и в-3-х, такое счастье – по сути дело случая (т.е. неконтролируемые нами вещи, события и состояния типа выигрыша в лотерее, телесных удовольствий, престижа, здоровья, а также деньги, секс, власть).
Более глубокое значение слова счастье предполагает, во-1-х,объективное состояние, а не субъективное чувство. Можно чувствовать себя счастливым (вернее, довольным) и не быть в действительности счастливым. И можно быть счастливым, даже не чувствуя себя счастливым, как это было с Иовом, познавшим мудрость через страдание. Во-2-х, истинное счастье – это постоянное состояние, дело жизни, а не текущего мгновения. Оно также под нашим контролем, это наш выбор. Его главные источники – мудрость и добродетель, которые обе приобретаются нашей практикой, а не пассивными дарами фортуны. И в-3-х, источник счастья – внутренний, а не внешний. Это хорошая душа, а не хороший банковский счет, который делает тебя счастливым.
Божественное провидение устраивает наши жизни в свете истинного счастья как нашу цель, так как Бог всеблагой и любит нас. Истинное счастье совсем необязательно включает в себя счастье в поверхностном смысле. Более того, чтобы быть истинно счастливым, мы нуждаемся в лишении многих атрибутов счастья в поверхностном смысле. Ибо истинное счастье требует мудрости, а мудрость нуждается в страдании. Глубокое, истинное счастье – в духе, а не в теле и даже не в чувствах. Оно подобно якорю, который прочно и спокойно держится на дне, в то время как штормы бушуют на поверхности. Бог допускает физические и эмоциональные штормы для укрепления якоря; огонь – для испытания и укрепления нашего характера. Бог позволил Иову страдать не потому, что у него нехватало любви к нему, но именно из своей любви нему, чтобы привести Иова к чудесной встрече с Богом [Иов,42:5], что является высшим счастьем для человека. Наши души должны стать блистающими мечами. Они требуют закалки огнем. Меч нашей сути – это вечно петь в солнце, как серафимы. И если мы сможем схватить хотя бы проблеск этого небесного предназначения, если мы поймем, почему мы предназначены судить ангелов , то мы не увидим проблемы в страданиях Иова. Что такое конечные земные страдания по сравнению с перспективой Царства Небесного?
Теперь для завершения анализа проблем теодицеи и происхождения зла, перейдем к рассмотрению терминов «свобода воли» и «всемогущество Бога». Чтобы яснее понять смысл термина свобода воли, полезно противопоставить ему философию, которая отрицает свободу воли. Это детерминизм. Согласно детерминизму, все, что мы делаем, может быть объяснено двумя причинами: наследственностью и окружающей средой. А свобода воли добавляет третью причину наших действий: наши воли, которые не являются следствием наследственности и окружающей среды, Иначе говоря, наследственность и окружающая среда обусловливают наши действия, но не определяют их: они необходимые, но недостаточные причины свободно совершаемых действий.
Есть и другая форма детерминизма, которая отрицает свободу воли. Это божественный детерминизм, присутствующий в исламе и некоторых формах кальвинизма. В них мы как бы горшки в руках Бога-горшечника и этот образ иногда интерпретируется так, что все наши действия полностью определены Первопричиной. Обычно христиане используют более убедительный образ Писаний – отношение родитель-ребенок, как более близкий к истине: свобода воли – неотъемлемая характеристика нас как сотворенных существ.
Естественно возникает вопрос: Почему Бог дал нам свободу воли и позволил злоупотреблять ею? Вопрос уводит в сторону: свобода воли – неотъемлемая часть сути человека, ибо без свободы воли (1) человек стал бы животным или роботом – и мир был бы без людей, (2) без ненависти, но и без любви.
Изучение Библии (Бытия) привело ряда теологов к мысли о том, что Бог сотворил людей как свободных, рациональных и совершенно хороших существ, которые вначале не имели прямой доступ к Его полностью раскрытому присутствию во всей Его славе. Т.е. Он дал им испытательный срок, или время реальной проверки в ситуации, где Он общался с ними только с некими ограничениями. Если бы человеческие существа были помещены в полное сияние незавуалированного величия Бога, они бы не смогли воспользоваться свободой выбора греха. Именно ситуация, где Бог не был виден в Своей полной славе, но где было видно Его славное творение и временами слышен Его голос, обеспечила период реального выбора и свободы.
Недопонимание Бога некоторыми (даже теми, кто которые по мотивам богопочитания наделяют Бога всеми возможными совершенствами без какого-либо согласования между ними, например, вплоть до нарушения Им Своей же логики – до абсурда!) состоит в том, что они не принимают во внимание того обстоятельства, что Божественное совершенство (всемогущество) не может создавать или выполнять бессмысленные внутренние противоречия. Именно никогда не противоречить самому Себе (абсолютная самосогласованность Бога) тоже есть Его совершенство. Такая абсолютная самосогласованность Бога (никогда не противоречить самому Себе), совместимая с Его всемогуществом (абсолютным совершенством), объясняет необходимое зло, как моральное (не мог Бог принудительно предотвратить грех без лишения нас свободы), так и физическое (не мог Бог избежать всего физического зла, если Он создавал мир, ограниченный естественными законами). Согласно К.Льюису, всемогущество – это сила, позволяющая делать все, что внутренне (внутренне – непротиворечиво) возможно; и не более того: Бог творит чудеса, а не чепуху. Согласно Августину, Бог решил, что лучше делать из зла добро, чем допустить, чтобы совсем не было зла; и более того, Бог не допустил бы никакого зла, если бы не был так всемогущ, чтобы и зло обратить в добро.
Именно всемогущество Бога состоит в том, что Он не только в определенное Им Самим время уничтожает зло, но и использует любое зло как средство способствования и содействия конечному добру и даже для творения добра для всех, кто любит Его, кто выбрал путь добровольно следовать Его плану () [см.также следующий раздел]. При этом даже самые страшные мучения могут помогать чуду вхождения в Царство Божие. Мы еще не там, и поэтому это еще не может быть доказано. Но в это можно верить. Тем более, что вера эта не слепая: она подкрепляется тем, что Бог иногда использует зло для формирования зрелой личности((некоторые богословы на Западе называют это «теодицеей формирования личности»), восемью библейскими принципами интерпретации зла (о которых речь пойдет ниже) – а главное, Бог нам открыл Свою бесконечную любовь, когда вторгся в историю, – когда мы видим страдания Иисуса Христа на кресте за все наши грехи (и мы сами это никогда бы не познали!).
«Теодицея формирования личности».
«Tеодицея формирования личности» (термин введен некоторыми богословами на Западе) состоит в том, что Бог может использовать зло и страдания для формирования личности. Переживая страдания и трудные ситуации, человек может возрастать (иногда даже наилучшим образом) в добродетели. А возрастание добродетели подготавливает его к вечному общению с Богом.. По сути – это третья категория благ, получаемых человеком (после свободы воли и естественных законов).
Действительно, любовь Бога к нам иногда предполагает такие жизненные испытания, которые способствуют формированию нашего характера. Огонь страданий закаляет веру (1Петра,1:6-7; 5:7-10); боль может служить нравственным напоминанием или предупреждением (; ); благодаря страданию мы учимся понимать и поддерживать тех, кому больно (). Самым утешительным фактом является то, что мучения верующего неизбежно прекратятся и в будущем боли у него не будет, и более того, всякое зло исчезнет: об этом прямо говорится в Писаниях.
Одно из возражений против такой «теодицеи формирования личности» основывается на факте, что зло и страдания не только не всегда приводят к положительным результатам, но и часто ожесточают и порабощают того, кого захватывают. Реакция человека бывает абсолютно не такой, какой должна быть, а иногда он внезапно умирает, так и не успев возрасти. Поскольку истинная свобода подразумевает возможность неправильного выбора, то и получается, что порой эти неправильные решения заканчиваются поражением, потерей, провалом и, что хуже всего, – вечным отчуждением от Бога. Ответ одного из богословских подходов на это возражение основывается на том, что при решении проблемы зла и страдания следует учитывать, что все три категории благ, получаемых человеком, перекрещиваются и должны рассматриваться совокупно. Возможно, что труднее всего верить в то, что Бог всеблагой именно потому, что так много свидетельствует об обратном, если рассматривать вещи, события и процессы в отдельности. Иногда приводят такой пример: рассматриваемый под увеличительным стеклом кусок материи, выглядит ясно посредине и расплывчато по краям, но мы знаем, что и края ясны, потому что ясна середина. Жизнь подобна такому куску материи. Есть много расплывчатых краев, много такого, что мы не понимаем, потому что не видим, но все это можно объяснить ясностью центра – Креста Иисуса Христа.
Еще одно возражение состоит в том, что число примеров бессмысленного, бесполезного зла и страдания намного превосходит все то добро, которое при этом может быть достигнуто. Рассмотрим конкретнее это возражение. Многие считают, что не должно быть ни одного случая бессмысленного страдания, также как и тех случаев, когда степень страдания превышает необходимую. По-видимому, эти мыслители считают, что Бог держит все под Своим контролем, и поэтому попускается только необходимое зло, которое переходит в добро, и зло никогда не бывает бессмысленным (это т.н. учение тщательного провидения). Но не все христиане так считают. Некоторые считают, что Бог позволяет сотворенным существам иметь свободу выбора до такой степени, что это приводит к страданиям, кажущимся нам бессмысленными. Тем не менее, даже те, кто допускает бессмысленное страдание, считают, что в целом вся система имеет смысл и цель, также как и свобода выбора, естественные законы и духовный рост. Но в любом случае ни один человек не в состоянии судить о размерах зла и не способен определить, переходит ли страдание допустимые границы или нет.
Действия Бога по отношению к моральному злу. Каковы методы Бога в Его действиях по отношению ко злу согласно Писаний? Частично мы это уже знаем из разделов III-IV. А здесь мы приведем итоговый ответ на этот вопрос.
Суд и Божья кара. Информация о Божьем наказании и болезненных последствиях греха имеется во многих местах Библии, начиная от первых предупреждений Бога Адаму и кончая заключительными описаниями Апокалипсиса. Через свое осуждение греха, которое часто приводит к человеческому страданию, Бог сотворил путь к конечному обиталищу нераскаявшихся грешников. Но за Божьим судом стоит цель милосердия, а не возмездия. Гнев Господний мотивируется Его любовью к своему народу. Болезненное для нас правосудие Господне в этой жизни можно охарактеризовать как только часть Его «блокировки дороги в ад», часть Его «трубных призывов к необращенным»: это предупреждения всем людям о том, чтобы они не разрушили себя Последним Судом. Но иногда кажется, что правосудие Бога над греховным человечеством неполно или откладывается – как еще можно объяснить продолжающееся доминирование зла в мире? Но мы уже знаем из предыдущего раздела, что такие задержки Божьего суда могут иметь место, если в соответствии с христианской верой мир является местом духовного роста (или учебы) личности. В Библии описана и парадоксальная форма наказания, когда гнев Господень позволяет людям быть тем, чем они желают быть в согласии со своими греховными (идолопоклонническими) намерениями (см.), т.е. кажется, что Божий суд скорее приводит к увеличению зла в мятежном мире, чем к прекращению его.
Тема Божьего правосудия пронизывает Библию, Бог прямо говорит о Своем обращении с людьми как с ответственными существами согласно их заслугам. И те элементы стабильности, свободы, милосердия и благодати, какими мы наслаждаемся, мы имеем благодаря Божьему справедливому правосудию среди нас.
Поскольку нет праведного ни одного и мы все грешники (), а возмездие за грех смерть (см.,напр., ; ), то ясно, что всякое милосердие по отношению к нам незаслуженно. Тема незаслуженного нами Божьего милосердия нескончаема. И удивительно не то, что люди умирают за свои грехи, а то, что мы остаемся живы несмотря на них.
Воплощение, Крест, Воскресение, Святой Дух и . Бог сделал больше по отношению к моральному злу, чем просто судить справедливо людей. Бог предпринял особую инициативу в человеческой истории – в воплощении, распятии, заместительной жертве-искуплении (страданиях, распятии, отделении от Бога-Отца), воскресении Иисуса Христа, и Его продолжающемся присутствии на земле через Духа Святого и Церковь. В следующем разделе мы кратко рассмотрим как Бог через Христа принес нам прощение и восстановление несмотря на наши греховные выборы.
Христианская вера утверждает, что Бог в состоянии своей Благодатью обратить все зло в добро (и в прошлом, и в настоящем, и в будущем). Христиане видят как Бог делает это на Кресте и в Воскресении. Христиане видят также Бога обращающим зло в добро в их сердцах и они доверяют Богу как делающему то же во всей Своей вселенной. Через Христа в мире появился новый порядок с новым отношением к себе, к близким и окружающим и ко всему Божьему творению. И авангардом этого нового порядка есть . Новый язык новой семьи: Бог – наш Отец, все члены семьи – братья и сестры, страдания и радости разделяются вместе (1 Кор.,12:36), все объединены (Телом Христа, Духом Святым) в новый мир надежды. Это первые плоды наступающего (хотя и в постоянной духовной войне с дьяволом и нашей старой греховной плотью) грядущего Царства Божьего.
Божье обетование Будущего, свободного от страдания и зла. Бог обещает конечную победу над злом и страданием в новых небесах и на новой земле после второго пришествия Христа (см. письма апостола Павла и Книгу Откровения). Все это будет окончательным решением проблемы зла. А ключ справедливого разрешения проблемы зла и страданий мы находим во Христе.
Дилемма, поставленная злом
Теперь рассмотрим одну из важнейших практических проблем, которая заключается в следующей дилемме, которую ставит перед каждым сотворенным существом со свободной волей наличие зла: да или нет злу? Во вселенском масштабе эта проблема возникла и перед Богом, она была решена Им; и мы также рассмотрим, как она была решена.
Да злу – примиряет с ним; любить зло – привязаться к нему, – и тогда зло может победить весь мир. Даже если зло просто не трогать (а это по сути попускать злу, т.е. тоже да злу), кажется неизбежным, что зло явно преуспеет в разрушении добра: добро кажется драгоценным и хрупким как фарфор, а зло напоминает быка в фарфоровой лавке. Одно жестокое слово может разрушить дружбу, один нехороший проступок может разрушить супружество, одно нажатие пальца неуравновешенного человека на ядерной кнопке может разрушить наш мир. Одна муха может испортить бочку масла (Эккл.10:1). Самое большое добро – это любовь – и ничто не кажется более слабым и уязвимым, ранимым, чем любовь; ничто так легко не предается как истина, ничто так легко не разочаровывается как надежда.
Нет злу – это отвержение зла, непримиримость со злом, ненависть ко злу. А ненавидеть зло – тоже привязаться к нему, ибо человеку практически невозможно (1) избежать фарисейской самоправедности при осуждении всех видов зла, (2) ненавидеть грех без ненависти к грешникам и (3) вообще ненавидеть – значит стать жестким, темным и негативным: даже ненависть ко злу приводит к окаменению нас в ненавистников. И более того, если бы Бог поступал абсолютно справедливо со злом (без учета Своих других абсолютных совершенств (конечно, это чисто умозрительное рассуждение), т.е. уничтожал бы его, то наш падший мир был бы в конечном счете полностью уничтожен! Абстрактно эта практическая дилемма кажется неразрешимой.
Эта практическая проблема решается не в общем виде, а при ее конкретизировании, рассматривая, как ее решал Христос. Т.е. не будем искать общий ответ на общий вопрос, а двинемся от общей проблемы к конкретной проблеме в поисках конкретного ответа и затем к общему ответу.
Как ответил Христос на конкретно поставленную ему дилемму (ловушку): забросать блудницу камнями или нет? Если бы Христос сказал забросать, то Он был бы жесток и предал бы Свое собственное учение о прощении, а Римское государство имело бы основание для Его наказания, так как оно запретило евреям смертную казнь. Если бы Он сказал не забрасывать, то Он уступил бы греху, предал бы закон Моисея (и Бога), а еврейские первосвященники имели бы основание для Его наказания. Аналогичная дилемма-ловушка: платить подать цезарю или нет? Если бы Христос сказал да, то Он бы материально поддержал порабощение евреев. Если бы сказал нет, то Он материально нарушил бы римский закон. См. изумительный ответ Христа в , .
Простые ответы Христа заключаются в одном слове прощение. Прощение ни примиряет, ни осуждает. Оно принимает, что зло есть зло, но не говорит со слепым безразличием поп-психологии нет ничего, что надо прощать. Оно ликвидирует связь между грешником и грехом – и освобождает грешника. Покаяние делает то же самое со стороны грешника.
Проблема дилеммы справедливость или милосердие состоит в том, что ее решение кажется невозможным (ни для человека, ни для Бога), поскольку невозможно совершать оба действия одновременно: или должна быть справедливая казнь для греха (смерть) или нет. Кажется, что законы логики не дают Богу возможность быть справедливым и милосердным одновременно, как законы физики не дают возможность телу находиться в двух разных местах одновременно.[Это по сути тот же логический довод атеистов против христианства, который приведен в II.]
Бог решает эту дилемму на Голгофе. Полная справедливость восторжествовала: грех наказан самим адским наказанием – отлучением от Бога (). А милосердие и прощение тоже полностью задействованы (для нашего спасения). Весь фокус в том, что мы можем только мысленно отделить грех от грешника, а Христос реально разделил их, поскольку заместительное искупление Христа полностью отделяет грех от грешника – и нам дано милосердие, а греху дана справедливость (наказание в Его божественной личности на кресте). Вот почему спасает библейская формула покаяться и поверить. Объективно спасение выполнено Христом на кресте, но субъективно мы должны принять Его и Его отделение греха от грешника. Наши покаяние и вера – вместе означают наше да этому; наши непокаяние и неверие – вместе означают наше нет.
Восемь принципов библейской интерпретации зла и страдания.
Рассмотрим теперь принципы библейской интерпретации зла и страдания (их можно найти, по крайней мере, восемь), которые помогают правильно относиться ко злу и страданию.
1. Принцип наказания (отношение ко злу и страданию как к каре, наказанию).
Этот принцип – фундамент для всех других принципов интерпретации зла и страдания в Библии. Понятие карательного правосудия – составная часть цельного рационального и гармонического мировоззрения, в котором все составные части вносят совместный согласованный между собой вклад в упорядоченный космос. Это прямая связь между причиной и следствием: действия (поступки) определяют судьбы людей, рано или поздно человеческая справедливость (праведность) будет вознаграждена, а человеческая несправедливость (греховность) будет наказана. Что посеет человек, то и пожнет (Гал., 6:7).Если управление вселенной осуществляется только одним Богом, который есть Бог справедливости, то рано или поздно человеческая праведность будет вознаграждена, а человеческая неправедность будет наказана.
Страдания людей – это осуждение Богом человеческих грехов (Второзак.30:15; Исайя 3:11; ; ; ). И хотя не всякое страдание человека – результат его греха (или греха его родителей либо близких), однако ясно, что каждый грех приносит страдание.
Этот же принцип прямо связан и с нашей надеждой на будущее. Он рассматривает страдание не как иррациональный удар судьбы, а как заслуженное и необходимое наказание зла и несправедливости. Поэтому наказание сохраняет моральный порядок и гарантирует более стабильное будущее. И этот же принцип также связывает страдание с ожиданием того, что наказание за грех приведет к раскаянию и по крайней мере к прекращению дальнейших актов зла.
2. Принцип дисциплинирования (отношение к страданию как к воспитательной или образовательной мере).
Этот принцип связан с представлением о Боге как о небесном Отце. Как и принцип наказания, он имеет дело со страданием (болью, огорчением) как с прямой мерой Бога, но по совсем иным мотивам: не в связи с правосудием, а для дисциплинирования Своего народа с тем, чтобы приблизить его к Себе. Цель Божьего дисциплинирования – преподать урок, воспитать, дать мудрость своим детям через страдание (; Иеремия 18:1-10; ; ). Господь наказывает своих детей не каждый раз, когда они делают что-либо плохое, но только когда они упорствуют в своих проступках. Если мы быстро осознаем проступок и исправляем его и его последствия, Господу нет необходимости наказывать нас. Мы должны осознать, что, когда приходит наказание, оно послано для исправления, а не для осуждения (). Другая причина, по которой Господь наказывает нас, заключается в том, чтобы защитить нас от вредных последствий греха.
Даже Христос совершенствовался через страдания (). Тех, кто приносят свои страдания Христу в любви, Дух Святой преобразует в подобных Христу. Апостол Павел ( и далее) говорит, что мы должны радоваться в наших страданиях. Наша радость не устраняет, конечно же, реальность страдания, но проистекает из нашей способности следовать нашему христианскому призванию через нашу боль и страдание. Только то страдание, которое во имя Христа и сродни Христовым страданиям, – причина для радости и благословения ().
3. Принцип испытания (отношение ко злу и страданию как к свидетельству или испытанию). В этом принципе страдание рассматривается как явное (очевидное) свидетельство и испытание.
(а) Поскольку мир во зле и часто под контролем греха, Бог ждет очевидных проявлений греха и праведности, которые неизбежно произойдут. То, что последствия греха не ограничены только грешником, приводит к тому, что накопление следствий греха в обществе позволяет лучше увидеть весь ужас зла в человеческом сердце (что в конечном счете служит добру!). Человек стремится скрыть грех, но Бог являет Свою славу и благость вынесением греха на свет и его разоблачением. Мы хотим отвратить наши глаза от ужасов инквизиции, работорговли, индустриально-технологического прогресса, газовых камер, атомной бомбы; но Бог заставляет нас смотреть на них.
(б) В этот испытательный период глубина веры человека подвергается жесткому тесту(в частности, в те времена, когда Бог кажется молчащим, когда праведные жестоко страдают, а грешные кажутся безнаказанными, – испытывается вера, что Бог разрешит проблему зла) . И кроме того, мир пока еще является местом духовного развития личности через страдание: мы должны научиться любить справедливость и ненавидеть зло ради самих себя, а не ради немедленных последствий в форме награды или наказания.
4. Принцип откровения (отношение к страданию как к одному из путей откровения).
Он трактует страдание как свидетельство вхождения человечества в более полное знание Бога (которое дается только через откровение). Своим разумом мы недостаточно (и даже неправильно) понимаем всю яркость Его сияния и поэтому всю темень нашего зла. Если бы вовсю сиял свет Бога, то мы были бы как бы в аду на земле(ибо обнажилось бы очень много того зла, которое еще завуалировано). Чем больше мы познаем Бога, тем больше видим нашу порочность и больше страдаем (см.книги пророков Осии, Иеремии, посл. римлянам ап. Павла).
То, что многие видели истинное величие (славу) Бога во времена больших страданий, подтверждает этот принцип. Дает или не дает страдание откровение, зависит от взаимоотношений страдальца с Богом.
Принцип искупления (отношение к страданию невинных как к страданию, испытываемому за других или вместо других). Он имеет два тесно связанных смысловых значения:
а) Страдалец страдает за других или вместо других;
б) Бог может добиться победы через страдания.
(а) В Ветхом Завете: Страдание невинных, испытываемое от других людей, может также (сознательно или бессознательно) испытываться за других (чтобы другие, видя их страдания, прошли школу сострадания, любви к ближнему, жертвенности, духовного роста, мудрости) [Исайя, 40-55].
В Новом Завете: Страдания Иисуса Христа – заместительны (испытанные вместо других). Заместительная жертва страдальцев может приноситься и христианами вслед за их Господом (Кол.,1:24; Фил.,3:10; 2 Кор.,12:7).
Бог использует наши страдания, чтобы помочь другим. Почти в каждом случае страдания найдется христианин, который испытал подобное страдание и поэтому может свидетельствовать и делиться своим опытом для утешения. Церковь, творение Христа, призвана не только переносить страдание, но и сражаться со страданием, помогая страдающим.
(б) Тоже связано со страданиями и смертью Иисуса Христа: Бог добился спасения людей тем, что
Сам Бог–Сын испытал неизмеримую боль на кресте и отделение от Бога–Отца за все наши грехи, и в наших страданиях дает нам победу над ними () и твердую опору для веры (). Если самое худшее зло было побеждено Христом, то, конечно же, и на меньшем уровне вашей собственной жизни придет конец и вашим страданиям и страданиям других через вас единением с Христом посредством веры.
6. Принцип тайны (отношение ко злу и страданию как к тайне для человеческого ума).
В ряде случаев конкретное зло не поддается теоретическому объяснению. И в Библии часто говорится о тайне страданий. Этот принцип оказывается полезным в двух отношениях. Во-1-х, он выводит нас за рамки ограниченной интерпретации, которая в некоторых случаях невозможна и тем самым открывает путь альтернативному и возможно более адекватному решению. Во-2-х, своим величием он заставляет нас почувствовать обширность и тайну всей вселенной, равно как и необходимость смирения, терпения и веры в наших поисках решения проблемы конкретного зла и страдания.Христиане признают, что понимание смысла зла нами, как конечными творениями, неизбежно ограничено.
Приведем два примера: (1) В стихах сам Иов говорит, что пути Бога неизбежно являются тайной для человеческого ума, перед которой мы должны склоняться с доверчивым смирением. (2) Иисус Христос продемонстрировал этот принцип Своим свидетельством привязанности к Богу-Отцу в темноте креста: это пример веры (для Его учеников), которая стойко сохраняется вопреки любым обстоятельствам.
Бог никогда не требовал, чтобы мы понимали. Нам нужно только доверять Ему так же, как наши дети доверяют нам и нашей любви к ним, хотя и не всегда понимают, почему мы ведем их в то или иное место.
В итоге: мы должны верить там, где мы не понимаем. Означает ли это, что вера в Бога – слепая? Нет, ибо мы видим Божью любовь, благость и сострадание в Иисусе Христе и видим потому, что Бог это нам открыл, вторгнувшись в историю (сами бы мы это не открыли). А полное понимание мы получим только при встрече с Богом ().
7. Эсхатологический принцип (эсхатологическое решение проблемы зла и страдания).
Этот принцип видит ответ на проблему зла и страдание как существующий вне нынешнего конфликта. Этот подход состоит в вере в то, что в период величайшей несправедливости, темноты и ужасающих бедствий Бог внезапно вторгнется в историю во всей Своей славе для торжества над злом, устранения страданий и вознаграждения праведных. В Ветхом Завете об этом упоминается в кн. Исайи (напр., гл.2, 26 и 53), Иезекииля (гл.37), Михея (гл.4) и особенно выразительно говорится в кн. Даниила (напр., 9:7-27;12:2-3). Эсхатологический взгляд на страдание, так фигурирующий уже в Ветхом Завете, достигает своей полноты в Новом Завете, где прямо утверждается, что в конечном счете всякое зло, грех, страдание и смерть будут уничтожены – и в новой вселенной (после второго пришествия Христа) никто их никогда не вспомнит. И справедливость, мир и радость будут царить вечно (). Бог проявит Себя в абсолютной ясности как окончательный Победитель; Его любовь, доброта, святость и мудрость больше не будут в тени.
8. Принцип сатанинского искушения (отношение ко злу как к сатанинскому искушению).
Принципы иудео-христианского решения содержат и ссылку на библейское указание о внечеловеческом мире (Люцифер-Сатана и его бесы) как источнике искушения и порочности. Именно Сатана, первым сделавший выбор в пользу греха (Бытие, 3:1-5, 13-15; Лук.,10:18; 1Иоан.,3:8, Откр.,12:9, 20:2), написал партитуру грехопадения человека.
Но как произошло грехопадение дьявола и его бесов или демонов? Полностью это понять нашим разумом невозможно. На основании кратких упоминаний в Библии (кроме вышеупомянутых см. также Исайя, 14:15-17; 1Тим.,3:6) некоторые теологи сделали следующий вывод: Всем сотворенным ангелам также была дарована свобода выбора и они также имели время испытания: в момент сотворения ангелы не имели окончательного совершенства и призваны были к его достижению через постоянное общение с Богом, что, в свою очередь, обеспечивало для них неизреченное блаженство. Но один из ближайших к Богу херувимов – Люцифер – соблазнился своей близостью к Всевышнему и своей ролью посредника между Богом и ближайшими к Нему ангелами.
В нем вспыхнула гордость перед ангелами, сознание своего превосходства, поскольку через него другие ангелы получали свет и благодать от Бога, а затем и зависть к Богу как источнику всех небесных сил и благ и, более того. безумное желание уподобиться Богу и стать самому богом. Это толкнуло Люцифера, ставшего Сатаной, к клевете на Бога перед ангелами и это создало соблазн в их среде, что и привело к величайшей катастрофе в ангельском мире. После войны с архангелом Михаилом и верными Богу ангелами Сатана и восставшие ангелы (примерно 1/3 всех ангелов) были низвергнуты на землю (). Грехопадение злых духов было настолько глубоким, и произошло с таким упорным ожесточением, что они уже никогда не раскаются в своем зле и гордости. В них не осталось ни малейшего добра, из которого могло бы возникнуть и развиться желание освободиться от зла и сделаться добрыми. Окончательно отпав от Бога, они стали источником и олицетворением зла. Поскольку Сатана и его бесы нередко служат причиной страданий и бедствий, при рассмотрении проблемы зла надо учитывать и роль Сатаны.
Сатана является причиной и многого из природного зла (Иов, 1:6-19; ; ). После распятия и Воскресения Иисуса Христа Сатана все еще обладает силой искушения в мире. Поэтому мы не должны легкомысленно относиться к Сатане, но всегда должны быть бдительны (1 Петра,5:8-9).
Нет необходимости предаваться излишним фантазиям, порождаемым верой в Сатану,
Следует помнить, что Сатана – только сотворенное существо,
Не следует забывать того, что какова бы ни была роль Сатаны как искусителя, сам человек ответствен за свой собственный грех – он виновен перед Богом.
Все библейские принципы интерпретации зла и страдания, вместе взятые, дают нам не только основу для теоретического самосогласованного подхода к решению проблемы зла и страдания, но, самое главное, они дают нам практическую помощь в том, как конструктивно жить и бороться со злом и страданием и достигать победы во Христе и через Христа. Многие христиане полагают, что окончательный ответ на проблему зла и страдания должен находиться не в раскрытой нам с помощью откровения и рационального мышления теологической теории, а в принятии искупительной жертвы Христа. И это в действительности не ответ на загадку, а победа в борьбе. При этом вообще дело не в ответе, а в том, что христиане доверяют Отвечающему. Христиане не имеют никаких гарантий против страданий, но они могут одержать победу над страданием и в страдании. Победа при этом состоит не в уходе от жизни, а в преобразовании их жизни Духом Святым через общение с Богом.
В этом мире, где страдал и был распят Иисус Христос, неизбежны страдания и гонения в тех или иных формах и для христиан. Христиане борются с грехом во имя Христа, – мир борется с Христом во имя греха. Борьба с грехом в людях (с человеком За человека) не прощается не только со стороны духа тьмы, но и тех людей, которые «тьму возлюбили более, нежели свет». Но страдания за Христа – это не тяжкая доля, а радостное преимущество (; Фил.,1:29). Апостол Павел дал нам классические примеры практического христианского отношения к страданию в посл. к Филлипийцам, втором посл. к Коринф., посл. к Колосс.(гл.1), посл. к Римл. (гл.8). «Кто отлучит нас от любви Божией: скорбь, или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч?…Все сие преодолеваем силою Возлюбившего нас…» (Римп.8:35-37). Наша радость не устраняет, конечно же, реальность страдания, но проистекает из нашей способности следовать нашему христианскому призванию через нашу боль и страдание. Только то страдание, которое во имя Христа и сродни Христовым страданиям, – причина для радости и благословения ().
Отношение христиан ко злу внутри себя и в общении между собой.
Принципиальное отношение христиан к моральному злу прямо вытекает из заповедей Христа (см., напр., ,…, 6:33, 7:1,12, 22: 36-40; ; см.также ; ; ).
В нашем падшем мире жизнь христианина нелегка. Она не сводится к своим усилиям по программе самоусовершенствования. С одной стороны, христианская жизнь – это божественная жизнь, черпаемая из Христа, как из источника направления, вдохновения и силы. Метафорически она описана в с помощью символа лозы и ветвей. Силой Духа Святого любовь Христа течет через христиан, приносит духовные плоды и является основой духовного роста каждого христианина. Но с другой стороны, зло входит и во внутреннюю жизнь христиан: в силу наследственного первородного греха во плоти и происков Сатаны, имеются и препятствия для духовного роста. Недостаточное понимание значимости нашего прощения, купленного смертью Христа, может привести даже к отсутствию духовного роста. Рассмотрим типичные препятствия к духовному росту христиан, которые произрастают из непонимания любви и прощения Христова:
неправильные цели,
слишком механистический (формальный) подход к христианской жизни,
слишком мистический настрой к общению с Христом,
нехватка знаний о любви Христа и силе, доступной христианам,
затаивание греха, блокирующего дружбу христианина с Богом.
Первое препятствие заключается в таких явно неверных целях, как персональный успех и угождение другим людям, или в такой более тонкой и завуалированной неверной цели, как сам духовный рост. Некоторые чтут себя больше, чем Христа, некоторые действительно служат Христу, но с намерением добиться успеха и одобрения других. А когда духовные плоды и духовный рост становятся целью жизни человека, то он более занимается собой, нежели Христом и прославлением Его. Бог хочет, чтобы мы обладали здоровой уверенностью в себе и периодически анализировали свою жизнь, но Он не хочет, чтобы мы занимались исключительно собой. И кроме того, мы вырастем духовно гораздо больше, если обратим свое внимание не столько на свое развитие и плоды его, сколько на любовь, силу и мудрость Христа. Если мы осознаем, что наша нужда уверенности и одобрения полностью удовлетворяется во Христе, тогда мы сможем свое внимание и привязанности перенести с самого себя на Христа (вспомним ).
Второе препятствие состоит в слишком формальном или механистичном подходе к христианской жизни. Некоторые верующие точно планируют и регулируют свои жизни в попытке соответствовать тому, что они считают библейским образом жизни, однако в их жизни мало радости и непосредственности Христа. Христос хочет, чтобы мы получали радость и признание от Него, а не от следования правилам и схемам. Он один – источник нашей уверенности, радости и значения. Вспомним слова Христа о том, что первая и наибольшая заповедь – возлюбить Его и других ().
Третье препятствие пребыванию во Христе заключается в том, что некоторые верующие становятся становятся слишком мистичными, ищущими какого-то сверхъестественного чувства в своей взаимосвязи. Эта зависимость от чувств приводит к одной из двух следующих проблем: или человек ждет чувств, которые побудят его к действию, или человек видит практически в каждом чувстве знамение Бога.
Но наши чувства – не самый надежный источник мотивации. Да, это верно, что Святой Дух побуждает нас к действию и дает нам силы, но Он уже направил нас с помощью Писания к тому, что мы должны делать. Неужели нужно ждать «святого откровения», чтобы мы возлюбили других, молились, изучали Писание, служили Его целям? Другая крайность возникает, когда люди верят в то, что их чувства – основное средство коммуникации с Богом, и приходят к утверждениям относительно воли Божьей, которые основываются лишь на их чувствах. В обеих крайностях Писание отходит на задний план, а зависимость от чувств может привести к совершению глупых и даже греховных действий. Писание никогда не рекомендует нам жить своими чувствами. Истины Писания – единственный надежный ориентир в нашей жизни. Означает ли это, что нам следует подавлять свои чувства? Нет, мы должны признаться Богу в их существовании, рассказать Ему, что мы чувствуем, и обратиться к Писанию, чтобы узнать, что Он хочет от нас (вспомним ). Если что-то идет от Бога, оно не нарушает библейских принципов.
Четвертое препятствие состоит в недостаточном изучении Писания и недостаточном знании того, что нам дано через великую любовь и силу Христа. Писание говорит нам, что Святой Дух дает нам возможность реально почувствовать любовь и силу Христа многими способами, включая:
а) разоблачение греха в нашей жизни, так чтобы мы могли исповедаться в нем и ничто не могло мешать нашей дружбе с Богом ().
б) помощь в нашем стремлении угодить Христу ().
в) создание для нас реальной возможности быть терпеливыми, когда мы следуем Христу ().
г) произрастание духовного плода в нас ().
И пятое препятствие – грех желанный, затуманивающий дружеское общение многих христиан с Богом. Каким бы приятным ни казался грех и каким бы он ни был завуалированным, его разрушительная природа неизбежно проявится во многом: разбитых связях, низкой самооценке, плохом свидетельствовании Христу,… Мы должны признать, что грешили, и просить прощения у Христа за каждый грех сразу же, как только он совершен, так чтобы ничто не мешало нашим дружеским отношениям с Христом, и мы могли бы и дальше чувствовать Его любовь и силу (вспомним ). А если в силу причинно-следственных связей остались разрушительные последствия нашего греха (уже после исповедания его Христу и после восстановления отношений с Богом), то у нас добавляется новое служение – по мере своих сил и возможностей ради угождения Христу участвовать в исправлении или устранении всех таких последствий, в оказании помощи пострадавшим и т.д.
Мы растем духовно, когда мы отвечаем на любовь Христа и верим, что Его Дух наполняет нас. Наполненность Святым Духом имеет два главных аспекта: нашу цель (чтить Христа, а не себя) и наши ресурсы (веру в Его любовь и силу для достижения результатов, а не в свою собственную мудрость и способности).
Зло в жизни христиан может быть весьма изощренным. Так, мы часто встречаемся в жизни с ситуациями, когда хотим чего-то. что кажется нам крайне необходимым и хорошим, но молитва за эту нужду оказывается бесплодной. В таких ситуациях полезно задавать три таких вопроса:
а) Воля ли это Божия? – Запрещает, позволяет или обещает это Писание?
б) Прославит ли это Бога? – Каков мотив – удовольствие, престиж или же прославление Христа?
в) Богом ли выбрано время? – Нужны ли какие-то условия? Хочет ли Он, чтобы я подождал(а)?
Вот тогда мы и сможем проверить нашу веру в Его качества, без каких-либо видимых свидетельств, поддерживающих нашу веру (вспомним и ). Мы должны помнить, что Бог видит картину большую, нежели мы: Он видит будущее, другие обстоятельства и все события, влияющие на нашу жизнь. Поэтому даже если наша просьба и допускается Писанием, мы не должны отчаиваться, если не видим немедленной реакции.
Полезно помнить следующие фальшивые верования, явившиеся результатом лжи Сатаны, вместе с неизбежными следствиями этих верований, а также решение Господа, позволяющее избежать этих ловушек:
а) Ловушка поведения (я должен отвечать определенным стандартам, чтобы чувствовать себя хорошо) вызывает страх неудачи. Ответ Господа – оправдание(Господь простил мне мои грехи и даровал мне праведность Христа) [вспомним Рим., 5:1].
б) Тяга к одобрению (мне нужно одобрение определенных людей для того, чтобы я думал о себе хорошо) вызывает страх отказа. Ответ Господа – примирение(я прощен Богом, тесно связан с Ним и целиком принят Им) [вспомним ].
в) Игра в вину (падшие не достойны любви и заслуживают наказания) вызывает страх наказания. Ответ Господа – умилостивление(я возлюблен Богом, так как Христос удовлетворил гнев Божий Своей смертью на кресте) [вспомним )].
г) Стыд (я не могу измениться, я безнадежен) вызывает чувство неполноценности. Ответ Господа – возрождение (я – новое создание во Христе) [вспомним ].
Как «противоядие» против опасности зла и для готовности встретить зло во всеоружии, полезно помнить 1Фесс.5:6-22; и Фил., 4:8.
Зло возникает и в общении христиан: появляются конфликты и проблемы между ними. В Новом Завете имеются указания на по крайней мере пять принципов их разрешения: (1)Искать помощи у Бога, чтобы поступать по духу, а не по вожделениям плоти (Гал.,5:16-23). (2) Пойти к тому, с кем возникла проблема и попытаться с духом смирения разрешить проблему вместе с ним, а в случае неудачи – в церковной общине (). (3) Ничего не делать по своему эгоизму, считаться с нуждами другого (). (4)Смирить себя, поставить другого прежде себя (). (5) Прощать друг другу ().
Моральные дилеммы, проблемы компромиссов и вынужденного сопротивления злу мерами принуждения.
В жизни нередко встречаются ситуации, когда христианин стоит перед моральной дилеммой, проблемой компромисса и вынужденного сопротивления злу принудительными мерами. Моральная дилемма возникает тогда, когда человек встречается с необходимостью выполнения несовместимых обязанностей или когда одна божественная заповедь требует выполнения действия, которое запрещено другой божественной заповедью. Например, А обязан спасти Б и В от смерти, но обстоятельства не позволяют спасти обоих лиц Б и В, а только одно лицо, так что другое умрет, или когда имеется возможность спасения обоих или хотя бы одного за счет сознательного совершения зла(воровства, обмана и др.). Возможность морального компромисса может появиться тогда, когда человек не имеет возможности выполнить полностью или удовлетворительно свою моральную обязанность без нарушения другой моральной обязанности, без принуждения или из-за физических ограничений. Одни теологи считают, что такие ситуации только кажущиеся, а не реальные и мы в принципе можем найти выход без совершения какого либо зла. Другие полагают, что такие ситуации реальны, но всегда имеется и реальный безгрешный выход. Третьи считают, что такие ситуации реальны и не имеют безгрешного выхода в нашем падшем мире – и только Иисус Христос находил безгрешный выход из подобных ситуаций, используя Свою Божественную мудрость (в последнем случае возникает вопрос о том, может ли христианин при достаточной силе молитвы достичь мудрости и решить моральную дилемму, подобно Христу). Нет пока ясного ответа и на вопрос, так можно избежать соучастия в надличностной вине этого мира (т.е. той вины, которая, по крайней мере, частично лежит и на нас пусть даже косвенно за некоторые виды зла в этом мире, включая, например, те, которые совершены от нашего имени политическими властями и т.д.).
Практически неизбежно стоит в наше время (да и, пожалуй, во все времена) трудный вопрос о сопротивлении злу силой психического и физического принуждения (включая войну, защиту от разбойника и т.д.). Многие теологи считают, что сопротивление христианина злу силой и мечом допустимо не тогда, когда оно возможно, а когда оно необходимо как единственно имеющееся у нас средство для достижения благой цели, т.е. нет иных средств борьбы. В таких случаях это не только право, а и обязанность вступить на такой путь, который может привести к физической гибели злодея: прав тот, кто выгонит из храма кощунствующих бесстыдников, кто оттолкнет от пропасти зазевавшегося путника, кто вырвет пузырек с ядом у самоубийцы, кто во-время выбьет оружие из рук убийцы, кто бросится с оружием на толпу вооруженных лиц, убивающих и насилующих беззащитных женщин и детей. Именно исходя из этой точки зрения, теологи В.Соловьев, и Н.Лосский категорически не соглашались с учением Л.Толстого о непротивлении злу насилием.
Мы видим, что христиане весьма серьезно относятся к тому, что практически невозможно жить безгрешно в нашем грешном мире. Зная, что практическая возможность выполнения всех заповедей Иисуса Христа полностью реализуется только в Новом мире, христиане знают также, что они имеют реальную возможность морального и духовного роста в нашей земной жизни. И попадая в ситуации моральных дилемм с неизбежностью морального компромисса, христиане всегда могут обратиться к Богу за поддержкой с молитвой об избавлении от впадения во зло (см., например, ) и о поддержке в выполнении заповеди Христа, содержащейся в (Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и это все приложится вам).
Проблема вечных мук неспасенных грешников.
Проблема вечных мук неспасенных грешников, возможно, – самая трудная проблема в христианском сознании. Все христиане верят, что после конца веков Бог будет объединять с Собою в вечном блаженстве всех тех, кто своей свободной волей захочет пребывания в нем Бога. А если не захочет? Можем ли мы представить Господа, насильно навязывающимся людям, не желающим быть с Ним? Навязывающимся Сатане? Если человек после свободного выбора к концу земной жизни отвергает Бога и избирает грех, не может Бог, вопреки воле человека, заставит его избрать единство с Богом. Бог никого не посылает в ад. В ад (область отвержения Бога) и духи зла, и грешные люди уходят по собственной воле. Если бы они остались в присутствии Бога, то небесная атмосфера святости и любви,Божественный Свет,озаряющий Обители Небесные, палили бы этих нераскаявшихся грешников в бесконечное число раз мучительнее, чем адский пламень. Вот почему даже в этом проявилась не только Божественная справедливость, но и благость.
В христианской теологии сущность ада состоит в том, что нераскаявшиеся грешники навечно расстаются с Богом, пытаясь сохранить свою уникальность в ужасном одиночестве, находясь в стороне как раз от того, что могло бы полностью удовлетворить их. Ад – это памятник человеческой свободе (Г. Честертон) и человеческому достоинству (Дж.Сайр). Божественная справедливость и благость проявляются и в том, что Бог прекращает с уничтожением падшего мира всякую активность зла, т.е. увеличение зла и страдания даже в аду.
Итоги систематического решения комплексной проблемы зла, страдания и теодицеи в рамках христианского мировоззрения.
Природа духовного (морального) зла – грех, отделение себя от Бога, отвержение благих намерений Божьих. Зло не существует само по себе, а возникает тогда, когда существо противится Богу.
Происхождение духовного зла – свобода воли человека (добровольное отвержение человеком воли Бога).
Цель, для которой Бог допускает духовное зло, – сохранение свободы воли (т.е. сути) человека.
Природа физического зла – боль, страдание. Боль возникает тогда, когда мы становимся тем, чем мы быть не можем. Страдания – большей частью это справедливые последствия нарушения воли Божьей.
Происхождение физического зла – духовное зло (мы страдаем, потому что мы согрешили), а также действие естественных законов, которое до грехопадения человека не причиняло физического зла благодаря благодатной непрерывной деятельности Святого Духа.
Цель или польза боли и страдания – духовная дисциплина и рост (обучение) для нашего окончательного совершенства и вечной радости, а также и просто наказание и удержание от греха.
Природа метафизического (природного) зла – действие упорядочивающих и регулирующих естественных законов, данных творению.
Происхождение метафизического (природного) зла – ограниченность (конечность) сотворенной вселенной.
Цель (или польза), для которой Бог допускает природное зло – необходимое условие творения человека(с его психосоматическим единством души и тела), а также – через переход в физическое зло то же, что и в п.6.
Краткая схема истории зла: Зло появилось вначале в действиях (восстании) Люцифера – Сатаны и его бесов. Зло среди людей появилось позднее (и под влиянием Сатаны), когда вместо деятельности по образу и подобию Бога, первые люди отделили себя от Бога и захотели сами стать богами. Впоследствии это привело к их отделению от природы, друг от друга и разделению внутри каждого человека. Образ Бога был разбит на всех уровнях (нравственно, интеллектуально, психологически, социологически,…). Все это – естественные последствия того, что люди взяли на себя то, что они не в состоянии нести, начали делать то, для чего не были созданы. И большая часть страданий происходит от отделения от Бога, от природы, друг от друга и разделения внутри самих себя: это справедливые следствия нарушения воли Бога.
По своей благости Бог уничтожает последствия зла и восстанавливает разрушенное Добро.
Таким образом, зло является извращением добра и в конечном итоге будет уничтожено.
При изучении всей истории человечества и его страданий, содержащейся в библейской философии, может возникнуть вопрос: «Почему Бог допустил и продолжает допускать столь длительный период активности Сатаны и всех падших ангелов и людей, а не положил ему конец сразу после предательства, т.е. не проявил сразу Своего величия и могущества?» Священное писание не дает прямого ответа на этот
Вопрос, но мы знаем, что полные ответы на все наши вопросы мы получим в Новом мире. Кроме того, любой ограниченный период времени по сравнению с вечностью – это по сути то же, что и мгновение. А пока возможно предположить, что Бог решил предоставить Сатане достаточную полноту времени, чтобы тот смог полностью реализовать свои замыслы и тем самым продемонстрировать свидетельство, урок и предупреждение всем другим ангелам и людям о том, что подобного рода попытки несомненно закончатся полным крахом и вызовут одни лишь страдания, а дискредитировать величие и авторитет Бога никому никогда не удастся.
Невозможно осознать Бога вообще. Мы часто не знаем намерений Божьих. Но часто мы видим, как зло порождает добро (хотя мы вначале и не видим).
Если Бог благой, то Он ничего не делает, чтобы нарушить эту благость (это наша доктринальная вера). Отсюда вывод: мы не можем судить о благости Бога по той природе, которая вокруг нас.
Нет ни одной религии в мире (кроме христианской), которая бы имела такую веру в благого Бога через какие-либо откровения. Отсюда вывод: мы должны верить там, где мы не понимаем, Иов не получает интеллектуальный ответ, но он встречается с самим Богом, т.е. получает высшее счастье для человека на земле.
Означает ли это, что вера в Бога – слепая вера? Нет, ибо мы видим Божью любовь, благость и сострадание в Иисусе Христе! И видим мы потому, что Бог нам это открыл (мы никогда бы сами это не познали!). Проблема зла не может быть разрешена, если мы не посмотрим на Иисуса Христа на кресте (который Сам испытал боль на кресте и отделение от Бога-Отца за наши грехи).
Таким образом, христиане верят, что зло существует, это не иллюзия, а реальность, но в отличие от атеистов (у которых нет решения проблемы зла, они не могут определить добро), они имеют решение проблемы зла, причем лучшее, чем все остальные мировоззрения, поскольку существование зла имеет в христианстве объяснение, не противоречащее сути всеблагого и всемогущего Бога.
И хотя мы, христиане, не всегда имеем ответ на личные проблемы зла, не всегда знаем, почему страдаем и почему зло иногда бывает ужасающих масштабов, не имеем однозначного ответа на вопросы о бессмысленном зле, о надличностном зле, практических методах борьбы со злом, о неизбежности компромиссов(при появлении дилемм выбора из двух зол), на проблему вечных мук не спасенных грешников, однако мы знаем, что истина состоит в том, что мы обитаем во вселенной, которую (вместе с нами) сотворил Бог и будущее которой Он предвидел, и в ней же Он вдохновил написание Библии, в нее послал своего Сына единородного, воскресил Его из мертвых и предлагает людям жизнь вечную в Своем вечном Царстве.Следовательно, даже когда мы не понимаем, почему что-то происходит именно так, а не иначе, мы все равно можем быть уверенными, что для всего есть причина. А пока нам ясно, что зло нельзя рассматривать в отрыве от других явлений и свидетельств, -и этим свидетельствам проще объяснить существование зла, чем злу опровергнуть все свидетельства. И мы знаем, что наше отношение к страданию, а не само страдание, решает – будет ли данное переживание для нас благословением или мучением.
Христианское мировоззрение дает не только теоретический самосогласованный подход к проблеме зла и страдания, основанный на библейских принципах, но и практическую помощь в том, как конструктивно жить (и бороться) со злом и страданием и достигать победы во Христе и через Христа. И согласно христианству окончательный ответ на проблему зла и страдания не в какой-то найденной достаточно полной теории, а в действенном искуплении. Это не ответ на загадку, а победа в борьбе. Христиане не имеют никаких гарантий против страданий, но они могут одержать победу над страданием и в страдании. Победа при этом достигается не в уходе от жизни, а в преобразовании своей жизни принятием искупительной жертвы Иисуса Христа через покаяние и признание воскресшего Иисуса Христа Спасителем и личным общением с Ним.
Библиография
1. J.P. Newport, Life’s Ultimate questions (ch.7.The Question of Evil and Personal Suffering.), 1989.
2. P.Kreeft and R.K.Tacelli, Handbook of Christian Apologetic (ch.6.The problem of Evil.), InterVarsity Press, 1993.
3. Бл. Августин, Энхиридион или о вере, надежде и любви, Киев, Уцимм-Пресс-Иса, 1996.
4. К. Льюис, Просто христианство, Чикаго, 1990.
5. К. Льюис, Страдание, М., Гнозис-Прогресс, 1991.
6. Н. О. Лосский, Условия абсолютного добра, М.. ИПЛ, 1991.
7. J. Boston, Moral dilemmas and the problems of compromise: two Christian perspectives, Stimulus, 1993, v.1, n3, pp. 2-12.
8. Сб. Доказательство существования Бога на примере порядка во Вселенной (ч.1). Диавол и его нынешние чудеса и лжепророки (ч.2), М., изд.»Даниловский Благовестник», 1994.
9. Т.Л. Мизи, Г.Р. Хабермас, Зачем верить? Бог есть!, Симферополь, Хр. Научно-аполог.центр, 1998. 10. о.С.Желудков, Почему и я – христианин. С.-П., 1996.
11. В. Карпунин, Непреходящая актуальность теодицеи Лейбница, в альманахе: Хронограф, 2, 1997, с. 68-87.
12. Г. Репецкмй, Страдание – Разве Бог всемогущ и благ?, в альманахе:Человек и Христианское Мировоззрение,вып.1, Симферополь, 1996, с. 134-144.
13. Б. Литтл, Религиозная эпистемология и проблема зла, в альманахе: Человек и Христианское Мировоззрение, вып.1, Симферополь, 1996, с. 256-270.
14. Дж. Сайр, Парад миров, С.-П., изд.»Мирт», 1997 (и также лекции Дж.Сайра по христианской апологетике в школе пасторов церквей евангельских христиан СНГ, Киев, сентябрь 1998).
15. Р.Е. Шауэр, Что делает Бог на земле? Борьба между Богом и Сатаной, М., Росс.христ.мисс.церковь, 1993.
16. Р. Мак-Ги, Поиск значимости, изд-во Логос, 1994.
17. А.И. Осипов, Путь разума в поисках истины, М., изд. «Даниловский Благовестник», 1997.
18. П. Литл, Проблема зла и страдания, в апологетическом сборнике: Библия и наука, «Сеятель истины», США,1990, с. 125-133.
19. В.Ф. Марцинковский, Смысл страдания, Свет на Востоке, 1989.
20. Философская Энциклопедия, М., изд.»Сов. энцикл.», т.2, 1962, ст. Добро и зло, стр.27-29; т.5, 1970, ст. Теодицея, стр. 197-199.
21. Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон, Энциклопедический словарь, т. ХХХII А (64), С.-П., 1901, ст. Н. Теодицея.
22. Н.А. Бердяев, Философия свободы, М., изд. «Правда», 1989.
23. Н.А. Бердяев, Царство Духа и царство Кесаря, М., Республика, 1995.
Теодицея (греч . «справедливость») –букв . «оправдание Бога», общее обозначение религиозно-философских доктрин, стремящихся согласовать идею благого и разумного божественного управления миром с наличием мирового зла, «оправдать» это управление перед лицом тёмных сторон бытия.
Если Бог всеблаг и всемогущ, почему в мире столько зла? Выходит, что Бог или может уничтожить зло, но не желает этого – тогда Он не всеблаг; или желает уничтожить зло, но не может (не в силах) – тогда Он не всемогущ. Поскольку как то, так и другое противоречит понятию Бога, приходится отрицать либо бытие Бога, либо реальность зла.
Существует внутреннее логическое противоречие в совместном принятии следующих четырех посылок: (1) Бог существует. (2) Бог всеблаг. (3) Бог всемогущ. (4) Зло существует. Если принять любые три из них, то следует отбросить четвертую.
Зло не есть что-то самосущее, а представляет собой просто отсутствие (недостаток) блага . Никакого зла на самом деле нет. Почему же Бог допускает недостаток блага?Так называемые «недостатки» способствуют высшему благу, мнение же о реальности зла есть следствие абсолютизации частной точки зрения . Сотворённый Богом мир есть лучший из возможных. Зачем же Бог сотворил мир, если творение не может быть совершенным?Зло есть результат злоупотребления человеком свободной волей, и всё же добро, творимое свободно, выше добра, творимого по необходимости .
Некоторый итог христианских размышлений о проблеме теодицеи - размышлений в традициях средневековой схоластики, можно найти у Лейбница. Он считал существующий мир наилучшим из возможных. Но почему тогда в этом мире есть зло? - задается он вопросом и приходит к выводу, что в мире существуют три вида зла, с необходимостью вытекающие из самого существования мира, созданного Творцом: 1) метафизическое зло - подверженность тварей страданию, связанная с их конечностью (мир - совокупность конечных тварей); 2) физическое зло - страдание разумных существ, подвергающихся наказанию как воспитательному мероприятию («отцовская порка»); 3) нравственное зло - грех, сознательное нарушение божьих заповедей, зло в собственном смысле слова.
В понимании зла Лейбниц следует Августину Аврелию, который утверждает, что зло имеет всецело отрицательную природу: зло, влекущее за собой страдание, - только неполнота, несовершенство бытия, отрицание добра, а не какая-нибудь самостоятельная отрицательная сила во Вселенной. Огромное количество бедствий, происходящих с живыми существами, нельзя подвести ни под один из указанных Лейбницем трех разрядов зла - в том числе и под метафизическое зло: разнообразные животные, проживающие в определенной местности, достаточно страдают от своей конечности в пространстве и времени - «за что» же им посылаются дополнительные бессмысленные страдания и преждевременная - до исчерпания конечного запаса их жизненных сил.
2. Теория познания и онтология Дж. Беркли.
Дж. Беркли (1685 – 1753)
« Трактат о принципах человеческого знания» «Три разговора между Гиласом и Филонусом»
Имматериализм. Критика концепции первичных и вторичных качеств.
Первичные качества – качества, идеи которых сходны с самими качествами тел. Протяжённость, форма, плотность, подвижность находятся в самих телах. Вторичные качества – качества, идеи которых отличаются от породивших их форм. Цвет, звук, вкус, запах, тепло находятся в наших органах чувств.
Так называемые первичные качества: протяжённость, форма, плотность, подвижность – или находятся в наших органах чувств (в этом случае их следует считать качествами вторичными), или не находятся в наших органах чувств (в этом случае мы их не воспринимаем и, следовательно, ничего о них не знаем).
Критика понятия материя как «носителя» чувственных качеств.
Критика понятия материя как причины ощущений (идей). Точка зрения Локка: Бог -> вещь -> идея, человек. Точка зрения Беркли: Бог -> идея, человек.
[Если допустить возможность существования вне духа вещественных, имеющих форму и подвижных субстанций, соответствующих нашим идеям о телах, то как было бы возможно для нас знать о них? Мы должны были бы знать это либо с помощью чувств, либо с помощью рассудка. Что касается наших чувств, то они дают нам знание лишь о наших ощущениях, идеях или о тех вещах, которые, как бы мы их ни называли, непосредственно воспринимаются в ощущениях, но они не удостоверяют нас в том, что существуют вне духа невоспринятые вещи, сходные с теми, которые воспринимаются. Это признаётся самими материалистами. Что касается наших чувств, то они дают нам знание лишь о наших ощущениях, идеях или о тех вещах, которые, как бы мы их ни называли, непосредственно воспринимаются в ощущениях, но они не удостоверяют нас в том, что существуют вне духа невоспринятые вещи, сходные с теми, которые воспринимаются. Это признаётся самими материалистами. Следовательно, остаётся допустить, что, поскольку мы обладаем каким-нибудь знанием внешних предметов, это знание приобретается благодаря рассудку, умозаключающему об их существовании из того, что непосредственно воспринято в ощущении. Но я не вижу, какой рассудок может привести нас к выводу о существовании тел вне духа, исходя из того, что мы воспринимаем.] Дж. Беркли. «Трактат о принципах человеческого знания».
Локк: Разве не нужны усилия и способности, чтобы составить общую идею треугольника? Ибо она не должна быть идеей ни косоугольного, ни прямоугольного, ни равностороннего треугольников; она должна быть всем и ничем в одно и то же время.
Беркли: Что может быть легче для каждого, чем немного вникнуть в свои собственные мысли и затем испытать, может ли он достигнуть идеи, которая соответствовала бы данному здесь описанию идеи треугольника, который ни косоуголен, ни прямоуголен, ни равносторонен, ни равнобедрен, ни неравносторонен, но который есть вместе и всякий, и никакой из них?
Абстрактные идеи не существуют: объект и ощущение – одно и то же. Бытие вещей состоит в их воспринимаемости.
Идеи могут существовать лишь в уме (духе), следовательно, именно ум и «поддерживает» единство их комплексов. Но комплексы идей (вещи), которые воспринимались, потом перестали восприниматься и после перерыва восприняты вновь, существовали ли, в то время, когда они не воспринимались? Вещи всегда кем-то воспринимаются.
Два вида ментальных сущностей: идеи (идеи пассивны: их бытие состоит в их воспринимаемости); духи (духи активны: их бытие состоит в восприятии).
Но если духи воспринимают, но не воспринимаются (они ведь не составлены из чувственных свойств), то откуда берётся и что вообще такое идея другого духа, в том числе – идея Бога, и не вытекает ли из позиции Беркли солипсизм?
Солипсизм (лат .solus, единственный,ipse, сам) – философское учение, согласно которому несомненно данным является лишь собственный субъективный опыт,а всё, что считается существующим независимо от него (включая тело, мир внешних сознанию вещей, других людей), в действительности – лишь часть этого опыта.
Критика Аристотелем теории идей Платона (“Метафизика”. Кн. 1, гл. 9). Скептицизм Д. Юма.
Теодице́я (новолат. theodicea - богооправдание от греч. θεός, «бог, божество» + греч. δίκη, «право, справедливость») - совокупность религиозно-философских доктрин, призванных оправдать благое управление Вселенной божеством, несмотря на наличие зла в мире. Термин введён Лейбницем в 1710 г.
Подобные доктрины с самого своего возникновения были тесно переплетены с телеологическими учениями различных философских школ, начиная с античных материалистов и стоиков, заканчивая эсхатологическими учениями христианства, иудаизма и ислама. Теодицея оказала определённое влияние на этические воззрения философских и религиозных школ и течений.
В политеизме ответственность за существование мирового зла возлагается на борьбу космических сил (например, античная религия), но уже в монолатрии, предполагающей возвышение одного божества над остальным пантеоном, практически возникает проблема теодеции (например, диалог Лукиана «Зевс уличаемый»). Однако в собственном смысле этого слова проблема теодеции конституируется в религиях теистического типа, ибо поскольку в семантическом пространстве теистического вероучения Бог осмысливается как Абсолют, постольку он оказывается референтно последней инстанцией, несущей всю полноту ответственности за свое творение.
В контексте христианства, где уже на достаточно раннем периоде остро обозначилась эта проблема, теодицея, как концептуальный и доктринальный жанр оформляется в XVII-XVIII вв. Употребление термина «теодицея» закрепляется после появления трактата Лейбница «Опыт теодеции о благости Бога, свободе человека и происхождении зла» (1710), где он защищал идею справедливости Бога, несмотря на существование зла.
В православной традиции проблема теодицеи тесно связана с антропо- и этнодицеей (В.С.Соловьев, П.А.Флоренский), что детерминировано введением в проблематику богословия задач обоснования православия как «истинной веры» посредством выделения его особого исторического призвания и мессианского предназначения.
Существует большое разнообразие версий теодицеи (интерпретация зла как посланного человеку испытания, трактовка зла как наказания человечества за грехи и др.), однако центральной темой теодицеи является тема обоснования защиты идеи предопределения.
Cредневековая философия представляет собой сплав теологии и античной философской мысли. Важнейшая регулятивная идея средневековой философии - идея-монотеистического Бога. Начало средневековой философии ознаменовано союзом философии и теологии, а ее завершение - распадом этого союза.
Со времени эпохи Просвещения в западном сознании установилось резко отрицательное отношение к Средним векам. Их характеризовали не иначе как временем мрака, невежества, обскурантизма, «провалом в истории». В настоящее время в философии происходит «реабилитация» Средневековья, утверждается мысль, что любую историческую эпоху, в том числе Средневековье следует оценивать соответствующим ей масштабом, не навязывая ей наши сегодняшние представления и идеалы.
К важнейшим чертам средневековой философии относятся:
1. Тесная связь со Священным Писанием, которое является исчерпывающей и универсальной парадигмой философского знания о Боге, мире, человеке и истории.
2. Единство Священного Писания и Священного Предания, которые взаимно дополняют и поясняют друг друга.
3. Символический характер культуры, где каждый религиозный образ предстает как многозначный символ священной и человеческой истории.
4. В основе философии и культуры Средних веков лежит текст и слово. Отсюда огромная роль искусства толкования, интерпретации. Благодаря полисемантизму текстов Священного Писания открывается возможность философского творчества в рамках единого канона и единой традиции.
5. Средневековая философия - это философия, основанная на традиции, преемственности, консерватизме. Ей чужд скептицизм.
Ее пронизывает дуализм божественного и человеческого, небесного и земного, сакрального и греховного.
6. Средневековая философия включает в себя идею божественного предопределения, теодицею, т.е. богооправдания перед лицом мирового зла, эсхатологическую идею, т.е. религиозное учение о конечных судьбах мира и человека.
Традиционная тема христианской философии - защита совершенства бога и того, что им сотворено, перед лицом существующего в мире зла - занимает много места в работах Аквинского. Обращение его к этой проблеме и широкое ее рассмотрение диктовались историческими и доктринальными потребностями церкви.
В средневековье действовали различные еретические секты, учения которых имели ярко выраженный антифеодальный и, следовательно, антицерковный характер. Томистская теодицея была прежде всего направлена против идеологии катаров и других еретических сект. Катары провозглашали, что материальный мир по своей природе есть зло, продукт злого духа, а поскольку человеческое тело является его составной частью, следовательно, оно по своему происхождению есть зло и достойно презрения. Соединение тела и души для последней не благодеяние, а, напротив, наказание, оковы. А если так, то Христос не мог воплотиться в человека. Из этих принципов следовало отрицание необходимости церкви, осуждение ее как собственника материальных богатств.
Перед христианской философией была поставлена важная дилема: если бог - творец всего и он добр, то откуда же берет начало зло? Из необходимости ответить на этот вопрос, возникла особая область христианской философии, называемая теодицеей и занимающаяся защитой совершенства бога и того, что сотворено им, перед лицом существующего в мире зла.
Исходным пунктом теодицеи Фомы была предпосылка, что зло не является позитивным явлением и не существует само по себе, как добро, а представляет собой просто обычное небытие, ущербность добра. Понятие зла Фома выводит из понятия добра, исходя из теоретико-познавательной предпосылки о том, что одна противоположность познается через другую, как например, темнота через свет. Это относится также к добру и злу.
Второй тезис томистской теодицеи выражается в утверждении, что «добро является субъектом зла». Фома утверждает, что все, а следовательно, и зло, имеет свою причину. Причиной же может быть лишь то, чему присуще понятие бытия, а следовательно, и добра. Зло же, будучи полным небытием, не может выступать в роли какой бы то ни было причины. В таком случае остается принять, что субъектом или источником зла является добро. Исходной точкой для Аквинского являются слова Августина: «Бог не является создателем зла, ибо не он причина стремления к небытию». Развивая эту мысль, Фома напоминает, что в области морали зло основано на несовершенстве поведения, которое в свою очередь следует из несовершенства морального субъекта. А если бог - это абсолютное совершенство, то он не может быть причиной морального зла.
Несколько иначе обстоит дело с естественными вещами. Здесь зло основано просто на их порче и распаде. В замыслах же творца каждая форма была задумана как благо мироздания, как его совершенство, которое требует, чтобы «в вещах существовало определенное неравенство, чтобы осуществлялись все степени добра». Чтобы в мире была гармония, необходимы различные степени добра, вещи различного совершенства. Как красота делается более очевидной на фоне уродства, так и добро более заметно при сравнении со злом, и наоборот. Таким образом вырисовывается третий тезис томистской теодицеи: некоторое зло не портит гармонии вселенной, напротив, оно необходимо для этой гармонии. Бог создает зло в вещах не намеренно, а лишь случайно.
Для обеспечения порядка вселенной необходим также порядок справедливости, который требует существования как грешников, так и хороших людей. Здесь «бог является творцом зла как наказание, а не как вины». Это четвертый тезис теодицеи Фомы.
В русской философии проблемами теодицеи уделяли большое внимание такие мыслители, как П. Флоренский, Е.Н.Трубецкой, В.И. Иванов, В.С. Соловьев, Н.О. Лосский.
Так, Вл. Соловьев, размышляя над истоками зла, задает вопросы: «Если оно из добра, то не есть ли борьба с ним недоразумением, если же оно имеет свое начало помимо добра, то каким образом добро может быть безусловным, имея вне себя условие для своего существования? Если же оно безусловно, то в чем его коренное преимущество и окончательное ручательство его торжества над злом?».
Все эти мыслители пытались положительно решить задачу совмещения бога и зла в мире. Однако существуют также примеры негативной теодицеи. В своем учении Альбер Камю утверждает, что бог, допускающий зло в мире, оказывается бессильным перед ним, и, следовательно, бога не существует. Атеистический экзистенционализм Камю акцентирует внимание на всесилии зла, и поэтому теодицея в его концепции решается в негативном плане. Отрицание существования высшего существа приводит к идее неуправляемости мира, и этим оправдывается наличие в человеческом бытии абсурда, пустоты и как следствие - никчемность человеческой жизни, обреченной на страдание и несправедливость. В этой связи высказано мнение о логичности введения специального термина «абсурдодицея» для понимания этой проблемы.
Именно теодицее Николая Онуфриевича Лосского и будет посвящено дальнейшее исследование. Наиболее полно и обстоятельно проблема богооправдания изложена Лосским в работе «Бог и мировое зло. Основы теодицеи».
Кроме того, созвучным с теодицеей Лосского является творчество Ф.М. Достоевского. Н.О. Лосский, будучи большим знатоком и ценителем этого писателя, посвятил взглядам Достоевского на проблему теодицеи целую главу в своей работе «Достоевский и христианское мировоззрение» .
Во введении к произведению «Бог и мировое зло» Н.О.Лосский вслед за Апостолом Павлом подтверждает: «Мир лежит во зле». Поэтому философ ставит перед собой задачу «дать ясный ответ на вопрос, как возможно, чтобы Бог, будучи Всемогущим, Всеблагим и Всеведущим, сотворил мир, в котором совершается так много зла, как возможно, чтобы тем не менее Бог ни в какой мере не был причиною, творящею зло, и чтобы попущение Им зла ни в каком смысле не ложилось бы пятном на Его совершенство, на Его всемогущество, всеблагость и всеведение».
Попробуем выяснить, удалось ли Лосскому решить «задачу теодицеи, труднейшей из философских наук».
Рассматривая вопрос о сотворении мира, Н.О. Лосский придерживается христианской концепции креационизма, то есть утверждает, что бог создал мир из «ничего». Причем создатель не брал материал для изготовления мира извне, подобно скульптору, создающему статую из мрамора, он сотворил мир и по форме, и по содержанию как нечто совершенно новое, абсолютно отличное от него самого. Между богом и миром существует резкая бытийственная грань. Поэтому Лосский критикует пантеизм за его попытки отождествить бога и окружающий нас мир.
Следует отметить, что согласно Августину бог также создал мир из «ничего», однако из этого следует не вывод о пропасти между создателем и созданием, а утверждение о том, что на творении лежит печать небытия, конечности и злобности. Мир имеет свойства использованного строительного материала, всему сотворенному присуща тяга к небытию, разрушению и самоуничтожению. Любая вещь удерживается в бытии одним только божественным содействием. Это суждение лежит в основе метафизического варианта теодицеи Августина.
Очевидно, тем самым Лосский пытается преодолеть недостатки подобной концепции, ставящей под сомнение один из неотъемлемых атрибутов бога - его всемогущество. Ведь если строитель ограничен свойствами материи, и не в силах преодолеть ее недостатки в конечном творении, то о всемогуществе говорить не приходится.
Бог создал мир не для себя, это ему просто не нужно, а для тварных существ, которые должны быть «действительными личностями». Действительная личность характеризуется тем, что она осознает абсолютные ценности, к которым Лосский относит истину, нравственность, добро, свободу, красоту и, наконец, бога и руководствоваться ими в жизни.
Однако в жизни существует и иные ценности - относительные, которыми человек также дорожит в своем тварном бытии. В отношении одних такие ценности добро, в отношении других - зло. В качестве примера Лосский приводит войну, победа в ней оказывается добром для победителя и злом для побежденного. В отличии от абсолютных, относительные ценности делимы и истребимы, погоня за ними свидетельствует об эгоизме человека.
Здесь необходимо сказать, что основным моментом философии Н.О. Лосского выступает нематериальный, бессмертный, неделимый субстанциональный деятель, сотворенный богом, обладающий «сверхкачественной творческой деятельностью», личным индивидуальным бессмертием и полной свободой деятельности.
Субстанциональный деятель создается богом, однако это пока не действительная личность, а лишь ее потенция. Действительная личность есть существо, свободно, сознательно и самостоятельно использующее свои силы, хотя бы отчасти, для осознания абсолютных ценностей и руководствующееся ими в своей жизни. Тварное существо должно самостоятельно и свободно использовать свои богом созданные свойства, чтобы оказаться действительной личностью. Если бы бог создал такую личность, то это вступило бы в противоречие со свободой ее воли.
В зависимости от того, избирает человек абсолютные или относительные ценности, он принадлежит либо Царству божию, в котором процветают абсолютные ценности, либо Царству греха, населенному грешными эгоистическими существами, отпавшими от бога.
«Наше Царство бытия, полное несовершенств, состоит из личностей эгоистических, не исполняющих в совершенстве двух основных заповедей Христа - люби Бога больше себя и ближнего как себя. Все распады, разъединения, все виды обедненной несовершенной жизни я объясняю в этой книге как следствие греха, то есть эгоистического себялюбия деятелей нашего Царства бытия, значит, нечто сотворенное нами самими», - писал в одном письме Лосский.
Бог предвидел, что они изберут неправильный путь и обрекут себя на более или менее длительный процесс восхождения к Царству божию.
Здесь мы подходим к центральному пункту теодицеи Лосского. Если тварные существа свободны, то существует возможность выбора не только добра, но зла.
Многие тварные деятели неправильно использовали свою свободу и осуществили действительность зла. Мы сами создали свою несовершенную жизнь, мы сами - виновники зла и все страдания, испытываемые нами, есть печальное, но заслуженное нами следствие нашей вины.
По словам Лосского, он выработал теорию свободной воли, опровергающую детерминизм и обстоятельно объясняющую, почему сотворенные богом существа могут быть только свободными деятелями.
Почему человек избирает путь зла? По Лосскому, причиной падения тварного существа является эгоизм. Это первичное, основное нравственное зло и все остальные виды зла (сатанинское, социальное, физическое) суть следствия себялюбия.
Нельзя не заметить, что в вопросе об основании зла Н.О.Лосский несколько расходится с христианской концепцией грехопадения.
Состояние невинности, которое предшествовало акту грехопадения, религиозному мировоззрению казалось более предпочтительным, чем искушенность в познании добра и зла. Ведь такое познание дает человеку свободу, оборотной стороной которой является произвол, стремление жить независимо от божественных предписаний, по собственному усмотрению.
Грешник, согласно Библии, похваляется в душе, говоря: «Я буду счастлив, несмотря на то, что буду ходить по произволу сердца моего» (Втор, 29;19). Истинная свобода человека отождествляется с подчинением божественной воле и (в католицизме также церковным предписаниям), а зло трактуется как извращенное, неправильное употребление свободы, своеволие и гордыня - наглое притязание на подобие божественного всемогущества: «Но они и отцы наши упрямствовали и шею свою держали упруго, и не слушали заповедей Твоих» (Неем, 9;16).
Гордость как уверенность в собственных силах, как сознание своей ценности и независимости составляет, согласно христианству, психологическую основу греха. «Гордость ненавистна и Господу и людям, и преступна против обоих… Начало гордости - удаление человека от Господа и отступление сердца его от Творца его; ибо начало греха - гордость и обладаемый ею изрыгает мерзость» (Сир, 10;7, 14-15).
Связывая греховность с независимостью человека, религия тем самым претендует на обладание абсолютной истиной. Правда может быть только одна, и она уже заранее известна, поэтому каждый, кто хочет сказать что-либо иное, есть богоотступник и грешник.
Таким образом, зло в христианстве трактуется как извращенная, гипертрофированная форма самоутверждения человека.
Но природа эгоизма, являющегося, по Лосскому, основой нравственного зла, несколько иная. Здесь речь идет не о самовозвеличивании человека, а о пренебрежении к богу и ближним.
Н.О. Лосский критикует умозаключение, согласно которому бог создал личность, творящую зло, следовательно, бог является первопричиной зла. Силлогизм А Ю В Ю С имеет право на существование в математике, но не в этике. Зло, согласно его концепции, заключено не в творческом акте бога - создателя всего сущего, а проистекает из свободной воли человека.
В учении о теодицее Лосский не мог не изложить свои взгляды на природу и свойства зла.
Зло рассматривается философом как противоположность абсолютному добру - богу.
В отличии от абсолютного добра, зло не первично и не самостоятельно по следующим причинам:
Оно существует только в тварном мире, причем вследствие акта свободной воли субстанционального деятеля;
Злые акты воли совершаются под видом добра, в составе зла всегда есть добро.
Помимо себялюбивых существ, отпавших от бога, существуют также демоны, отклоняющие нас от нормальной эволюции к богу и Царству божию. Если мы грешим тем, что недостаточно любим бога, то демоны просто не переносят мысли о существовании бога и всеми силами стараются занять его место. Поэтому бог и дьявол борются и поле битвы их - сердца людские.
Августин, как уже указывалось выше, исповедует два аспекта теодицеи - метафизический и эстетический. Согласно последнему, зло есть всего лишь видимость, которая имеет отрицательное значение сама по себе или с ограниченной человеческой точки зрения, а в целостной картине мира или с точки зрения вечности оказывается благом. Мир в целом является благим и прекрасным, а зло в нем существует только относительно: в виде недостатка, отсутствия, отрицания, небытия. Греховность порок, дурные сами по себе, существуют для того, чтобы укреплять веру и добродетель. С этой целью бог и «попускает» их возникновение.
Однако тезис о ничтожности зла трудно совместить с персонификацией зла в сатане, поскольку первое предполагает в качестве практической позиции христианина неучастие во зле, а второе - активную борьбу с ним.
Лосский отвергает точку зрения о небытийственности зла и подтверждает его существование в тварном мире, причем по вине самих же людей. Н.О. Лосский также отрицает дуализм добра и зла, присущий гностически-манихейским учениям или зороастризму.
Всей полнотой жизни, по выражению Лосского, человек живет только в том случае, когда следует по пути добра, когда же творит зло, он теряет истинное бытие. Поэтому зло - это лишь отсутствие добра, оно не имеет онтологического существования.
При такой постановке проблемы получается, что реальная жизнь в тварном мире оказывается небытием, а бытием объявляется труднодосягаемая жизнь в соответствии с абсолютными ценностями.
«Не надо нам свободы! Пусть бы лучше бог сотворил мир, состоящий из существ не свободных, но по необходимости творящих добро» Но в этом случае, отвечает Лосский, человек стал бы автоматом добра, хорошим часовым механизмом, творящим добро. О любви к богу, как свободном, творческом самоопределении и речи быть не может.
Таким образом, приходит к выводу философ, выбор у бога существует только между двумя путями - или вовсе не творить мира, или создать мир, в котором возможно (но не необходимо) возникновение зла. Бог предвидел все зло, что люди произведут в мире, поскольку зло, даже самое страшное, невсемогуще, неабсолютно, и не лишено смысла.Какой же смысл видит во зле Н.О. Лосский?
По мнению мыслителя, в переживаемых нами страданиях есть высокий целительный смысл. Естественное возмездие за нравственное зло есть всегда вместе с тем и средство исцеления от него.
Поскольку и совершенная, и несовершенная личность стремятся к полноте бытия, себялюбец, убеждаясь в несовершенстве мира и недостижении своих эгоистических целей, обращается к богу. Таким образом, все зло в конечном итоге ведет к преодолению эгоизма.
Как видим, здесь Лосский выступает апологетом провиденциализма, усматривая в страданиях человечества замысел божий.
Мыслители, интерпретирующие зло как наказание за свои грехи, всегда сталкивались с очень сложной проблемой - каким образом «обосновать» страдания животных, детей и праведников.
Согласно учению Н.О. Лосского о предсуществовании душ и их перевоплощении, всякий субстанциональный деятель после смерти, то есть после расставания со своей телесной оболочкой, выбирает в следующей жизни среду и условия, наиболее соответствующие его характеру, выработанному ранее.
Если у человека родители были алкоголиками, распутниками, то он сам виноват, что выбрал такую семью и принял плохое наследство. а родители ответственны за то, что дали такое плохое наследство. По этой причине такой «несовершенный» ребенок, например, тоже зол.
На наш взгляд, эта часть учения Лосского о теодицее оказалась наименее разработанной. Помимо отсутствия четких доказательств своей точки зрения, философ вновь расходится с христианской концепцией теодицеи.
Как известно, в христианстве грех понимается не только как происходящее во времени отступление личности от божественной воли, но и как изначальная, врожденная предрасположенность к злу, идущая от грехопадения Адама и Евы. Развернутое выражение идея первородного греха нашла в учении Аврелия Августина. Никто, по Августину, не чист от греха, даже младенец, который живет всего один день. Греховность ребенка заключается в том, что его нрав уже испорчен: он добивается удовлетворения своих капризов, даже если они ему во вред; жестоко негодует на тех, кто ему не подчиняется, и старается избить их. Отношение ребенка к миру из-за испорченности его души отличается обидой, озлоблением и желанием мести.
Лосский же считает библейский рассказ о грехопадении Адама и Евы неточным символически-поэтическим изображением драмы, пережитой всеми нами в самом начале нашей жизни при творении мира богом.
Литература
1) Аверинцев С. Теодицея // Философская энциклопедия М., 1970 г.
2) Козловский П. Страдающий бог // Немецко-русский философский диалог. М, 1993, вып. 1
3) Корогодова Е.П. «Теодицея по Вл. Соловьеву» // Диспут. М. 1992
4) Лосский Н.О. Воспоминания. Жизнь и философский путь. Munchen,1968
5) Лосский Н.О. «Бог и мировое зло» М., «Республика», 1994
6) Русская философия. Словарь. Под. ред. М.А. Маслина. М., «Республика», 1995
7) Скрипник А.П. Христианская концепция зла. // Этическая мысль 1991 М., «Республика», 1992
8) Фаустова М.Г. «Негативная теодицея в атеистическом экзистенционализме А. Камю» // Вестник Московского Государственного Университета. Сер. 7. Философия. - М., 1996 - ╪5
9) Философия. История философии. М., «Юристъ», 1996
10) Шердаков В.Н. Иллюзия добра. Моральные ценности и религиозная вера. М., 1982
Почему в мире существуют зло и страдание, хотя он сотворен всемогущим и всеблагим Богом? Почему праведники страдают, а отъявленные грешники и негодяи живут в довольстве и радости? Предельно упрощая, спросим: почему в жизни плохим людям хорошо, а хорошим людям плохо?
Эти и подобные им мучительные вопросы всегда в той или иной форме стояли перед людьми, и религиозные и философские поиски в истории культуры в немалой степени определялись «проблемой существования зла». Ведь если Бог всеведущ, то Он, во-первых, знает, как сильно страдают и мучаются сотворенные им существа. Во-вторых, как всемогущий, Он может сделать так, чтобы страданий и зла в мире не было. Если же Он этого не делает, то Он либо не всемогущ, либо не благ и не справедлив?
Теодицея – термин, который был введен выдающимся немецким философом Г.В. Лейбницем в XVIII веке, в трактате «Опыты теодицеи о благости божией, свободе человека и первопричине зла» (1710). Дословно теодицея переводится на русский как «оправдание Бога» или даже «суд над Богом». Так Лейбниц назвал те религиозно-философские учения, которые пытаются «примирить» наличие всеблагого и всемудрого Божественного Провидения с наличием зла в мире. Так что слово «теодицея» образовано от древнегреческих слов ὁ θεός (theos) – бог, и ἡ δίκη (dikē) – суд, право, справедливость, судебное решение.
Между тем, минус многих философских теодицей (в том числе и лейбницевской) в том, что они пытаются рациональными способами оправдать зло, представить его как необходимую составную часть мира, нужную для всемирной гармонии. Например, могут считать, что отдельные частные недостатки, «теневые стороны бытия» лишь усиливают и подчеркивают совершенство целого мира. Тот же Лейбниц доказывал, что, несмотря ни на что, мы живем в лучшем из миров (за что его потом едко высмеял Вольтер в своем знаменитом «Кандиде»). Подобные растворения мук и страданий отдельно взятого человека в мировой необходимости вызвали яростное отторжение у Ивана Карамазова: и действительно, как можно оправдать мировую гармонию или божество, которым нужны, например, смерть и страдания детей?
В христианстве, во-первых, считается, что Бог зла не создал и что не Он его виновник. Зло возникает из злоупотребления свободой сотворенных Им существ, которые вследствие грехопадения отпали от первоначального совершенства и Бога и теперь причиняют страдания себе и своим ближним.
Во-вторых, в то же время ни в коем случае нельзя отворачиваться от наличия зла и страданий в мире, чтобы «философски» не заболтать трагедию . Так страдающий библейский Иов все не мог согласиться с увещеваниями своих друзей и просил Бога ответить на свои полные боли вопросы. Иов никак не мог успокоиться, пока не увидел Бога («теперь же мои глаза видят Тебя – Иов. 42.5.»), пока не смирился, просто приняв даже то ужасное, что с ним случилось. Но ведь и Бог одобрил неукротимость Иова, то, что тот не стал утешаться рациональными аргументами своих друзей, призванных объяснить и словно бы оправдать его страдания: «Вы говорили о Мне не так верно, как раб Мой Иов – Иов. 42.7».
Кстати, мне кажется, что «книга Иова» – это и есть настоящая теодицея. С одной стороны, она показывает, что никакой суд над Богом невозможен и нелеп хотя бы в силу несоизмеримости судящего и Того, Кого пытаются оправдать. С другой стороны, она никак не отрицает, и напротив, даже подчеркивает и обостряет проблему существования зла и страданий в мире.
Вообще, видимо, потому о религии и говорят как о вере, а не о знании и науке. Видимо, подвиг веры заключается в («Верую, ибо абсурдно») доверии Божественному Промыслу и в уверенности, что в конечном итоге все, даже самые тяжелые страдания послужат во благо, если суметь их вынести до конца («Претерпевший же до конца спасется – Мф. 10.22»).
На анонсе фрагмент картины Иеронима Босха “Се человек”