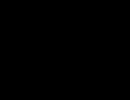Время, пространство, хронотоп в социальном и гуманитарном знании.
СОЦИАЛЬНЫЙ ХРОНОТОП
| Наименование параметра | Значение |
| Тема статьи: | СОЦИАЛЬНЫЙ ХРОНОТОП |
| Рубрика (тематическая категория) | Философия |
Определив в общих чертах социальную реальность, займемся теперь формами ее, т. е. социальным пространством и временем. Мы постулируем, что пространство и время - это соответственно экстенсивная и интенсивная формы бытия, т. е. пространство есть расположение одного рядом с другим, подле другого, а время - последовательность одного после другого. Базовая архетипическая структура социального хронотопа коренится в мифологемах. Пространство выражает собой аполлонийскую, а время - дионисийскую сторону бытия.
Вообще говоря, социум раскрывается в социальной философии аполлонически, прежде всего в экстенсивном плане, т. е. как единство сосуществующего многого, - в форме социального пространства, в котором есть собственная социальная геометрия (скажем, ʼʼвертикальное строение мираʼʼ, иерархия). Социальная философия в узком смысле есть философия социального пространства 107 .
Подчеркивая единство двух форм бытия, мы будем говорить о пространстве-времени, или, используя термин М. М. Бахтина, о хронотопе 108 . Это и дает нам возможность обсуждать социальную философию в широком смысле слова, включающую постижение как экстенсивных, так и интенсивных форм бытия.
3.5.1. ОНТОЛОГИЧЕСКИЙ СТАТУС ПРОСТРАНСТВА-ВРЕМЕНИ
Чтобы осмыслить онтологический статус пространства-времени, необходимо представить субстанциальный и реляционный подходы к нему 1 .
Субстанциальный подход к пространству-времени предполагает, что хронотоп понимается как нечто, самостоятельно существующее наряду с материей и сознанием, как их пустое ʼʼвместилищеʼʼ. Все объекты и субъекты мыслятся существующими в пространстве-времени, причем это пространство-время имеет независимое от объектов и субъектов существование. Пространство - чистая протяженность, а время -чистая длительность, в которую погружены предметы 110 . Свое окончательное выражение субстанциальная концепция хронотопа нашла у И. Ньютона˸ абсолютное пустое пространство есть вместилище материи и не зависит от нее, оставаясь ʼʼвсегда одинаковым и неподвижнымʼʼ 1П.
Субстанциальная концепция - это мысль, органичная для обыденного здравого смысла. Реляционный подход к пространству-времени - это, напротив, трудная мысль для повседневного представления. Реляционный подход намечен Аристотелем и в полной мере сформирован Г. Лейбницем˸ ʼʼЯ... утверждаю, что без материи нет и пространства и что пространство само по себе не представляет абсолютной реальностиʼʼ 112 . С точки зрения реляционной концепции, пространство и время - не особые субстанциальные сущности, а формы существования объектов. Пространство выражает сосуществование, координацию объектов, время - последовательность их состояний 113 . В зависимости от того, существует или не существует в пространстве материальный объект, пространство меняется.
Андрей Шабага
Для начала мы выскажем следующее утверждение: на ход социального развития вообще и идентичность исторического субъекта в частности влияют, прежде всего, социальные характеристики пространства и времени. Из утверждения следует, что мы собираемся рассматривать не столько физические характеристики изменений времени и пространства, в котором развивается то или иное общество, сколько особенности включённости социума в тот или иной социальный хронотоп. То есть в совокупность социального пространства-времени, воспринимаемого как единый феномен. Ибо социальное пространство порождает социальное время, которое, в свою очередь, проявляет себя через социальное пространство.
Поэтому, с нашей точки зрения, в корректном описании идентичности всякого исторического субъекта наряду с социальным пространством, должны быть указаны и его темпоральные характеристики. При этом под различными фазами социального времени-пространства мы подразумеваем качественно отличающиеся друг от друга состояния социального пространства. Из чего следует, что социальное время представляет собой способ измерения изменений социального пространства . Поэтому к социальным хронотопам могут быть отнесены такие известные всем феномены, как урбанизация, христианство, колониализм, постиндустриализация, а также коммунизм, неофеодализм и т.п. Из этого следует, что социальное время-пространство может иметь как умозрительный (предлагаемый социальный хронотоп ), так и воплощаемый характер (реализуемый социальный хронотоп ). Заметим также, что практически все социальные хронотопы , будучи по своей природе связаны с изменениями общественной мысли и общественных отношений, были так или иначе предложены обществу. Но далеко не все из них были выбраны. На это существовали разные причины: и неприятие обществом, и неготовность, и невозможность принятия по причине внешней зависимости и т.д.
Отметим также, что изменения, порождённые социальным хронотопом, могут происходить сразу же (синхронно) или иметь отложенный вид. Приведём примеры для обоих случаев. Первый проиллюстрируем в связи с резкими пространственными изменениями в Москве, произошедшими в результате выбора, сделанного Петром. Этот выбор привёл к тому, что была предпринята попытка насильно навязать русскому обществу конца XVII - начала XVIII века взятый в качестве образца, западноевропейский (голландский) хронотоп. Одним из ближайших следствий этой попытки стало резкое изменение облика Москвы. Разумеется, Москва не приобрела ни облика, ни статуса западноевропейского исторического субъекта (поскольку этот образец был обязателен лишь для дворян и служилых людей). Но, тем не менее, за короткий период правительственные учреждения, а вслед за ними и дворцы с усадьбами, за которыми последовали и жилища простого люда, переместились из центра города на север. В Немецкой слободе и прилегающей к ней местности были выстроены здания Сената, царской резиденции и т.д. Излишне говорить, что архитектура этих сооружений и планировка местности резко отличались от кремлёвского образца.
Даже в настоящее время к северу от Кремля сосредоточена основная масса дворцов как правительственного, так и частного назначения. Эти здания до сих пор, даже потеряв прежний статус, определяют особенности развития города. Они продолжают задавать тон в организации «идеального» пространства с его упорядоченной архитектурной планировкой, парками, включающими в себя отрегулированные водные бассейны и т.п., то есть всего того, что было в крайне малой степени присуще допетровскому способу организации пространства.
Приведём другой пример. Мы знаем, что главной улицей в современной Москве является Тверская. Но она была главной не всегда. Тверская, как свидетельствуют источники, возникла в XV веке на месте проселочной дороги из Москвы в Тверь. В это время Тверь была крупнейшим из городов, расположенных сравнительно недалеко от Москвы. Однако знание нюансов подобного рода еще не дает нам ответ на вопрос, почему главной стала именно она, а не часть бывшей дороги на другой крупный город - Дмитров, превратившаяся примерно в это же время в улицу Дмитровку (сейчас - улица Большая Дмитровка, расположенная неподалеку от Тверской). Поэтому продолжим наши изыскания. Заглянув в литературу, относящуюся к XVIII веку, мы найдем сообщение о том, что в результате переноса столицы России из Москвы в Петербург эта улица получила особый статус: по ней проезжали русские цари для коронации в Кремле и ею же возвращались обратно в Петербург. И хотя последняя коронация была в России более ста лет назад общественная структура улицы сложилась настолько прочно, что даже после неоднократной смены политических режимов за Тверской сохранились не только те социальные функции, что были присущи ей прежде, но и добавились новые.
Помимо дома московского градоначальника (нынешняя мэрия), на Тверской появились новые министерства и управления - то есть возросло ее значение, как управленческого центра. Помимо старых, всем известных московских магазинов (Елисеевский гастроном, Филипповская булочная) появились новые, были реконструированы и расширены старые гостиницы («Националь», «Центральная» и др.). Это увеличило значение Тверской, как торгового и туристического центра. Перевод Государственной Думы на угол Тверской повысило статус улицы до уровня одного из политических центров общества. Таким образом, мы видим, как социальное время-пространство создаёт предпосылки для изменения городского пространства и даёт импульс развитию многообразных социальных связей этой части Москвы.
Приведём ещё несколько примеров. Возьмём для начала послереволюционный Париж. Одним из внешних проявлений социальных изменений, вызванных Великой революцией, была его пространственная реконструкция. Но если Бастилия была снесена в самом начале революционных событий (на её месте появилась площадь), то для появления многочисленных проспектов и бульваров, возникших на месте бывших крепостных валов, частных владений и монастырей, понадобилось около ста лет. Они связали разные части города, что напрямую отвечало потребностям победивших страт (буржуазии, торговцев, ремесленников, рабочих). В результате Париж окончательно утратил следы феодального устройства, соответствовавшего прежнему времени и пространственному способу организации общества. Похожие попытки подогнать физическое пространство под ментальные пространственные конструкты были свойственны и более поздним социальным радикалам. В Советской России на смену частным владениям пришли коммунальные дома, которые преобразовывали среду городов и зданий в пространство, соответствующее концепции взаимной помощи и поддержки.
В фашистской Италии была предпринята попытка преобразовать социальную среду, исходя из совмещения классических представлений об организации пространства с функционализмом первых десятилетий ХХ века. В столице страны Муссолини, пытаясь воодушевить римлян на распространение итальянского владычества на средиземноморском пространстве (некогда входившего в состав империи), приказал снести сотни строений, чтобы открыть доступ к форумам эпохи Древнего Рима. Имея в виду древнеримский способ освоения пространства, Муссолини давал задания своим градостроителям относительно строительства городов с принципиально новой организацией пространства и модернизации старых городов за счёт новых функциональных построек.
На этом основании мы можем дать ещё одно определение социального хронотопа . Он представляется нам, как мыслимое, идеальное время-пространство, которое в случае его принятия обществом, может быть реализовано в физическом пространстве. В некоторых случаях это пространство может быть принято обществом, но не иметь своего физического воплощения, т.е. проявлять себя в виде социального фантома, или, используя терминологию Аквината, существовать до своего видимого проявления - ante rem . Это ментальное пространство в том смысле, что, во-первых, оно порождено умом и существует в умах людей, а, во-вторых, потому, что структура этой ментальности имеет пространственную организацию. Под пространственной организацией мы понимаем то, что ментальная структура состоит из элементов, связи между которыми предопределяют объём, как в случае представления структуры в виде образа, так и в случае воплощения этой структуры в реальном пространстве.
Можно отметить ещё одну особенность социального хронотопа: он представляет собой концептуальное пространство. Это пространство концептуально в том смысле, что его структура парадигмальна, то есть, представлена в виде некоего образца, следуя которому можно изменить «действительное» пространство (как физическое, так и социальное). В результате воздействия концептуального пространства, физическое приобретает такую форму, в которой всё становится сообразно и соразмерно человеку. В частности это находит своё проявление в особом виде времени. В.И.Вернадский в этой связи высказывал предположение, что ноосфера, будучи продуктом «переработки научной мысли социального человечества» представляет собой особый пространственно-временной континуум, в котором время проявляется не в качестве четвёртой координаты, а в виде смены поколений.
Пространственная организация ментального хронотопа связана, на наш взгляд, со свойством человеческого мышления оперировать в своей деятельности пространственными образами. Ибо линии, схемы и абстрактные понятия, используемые человеком для описания тех или иных явлений и процессов, являются для него лишь языком, то есть средством передачи тех или иных качеств объёмного мира. Этот язык (как естественный, так и искусственный) был призван описывать пространство и все явления в нём проистекающие. В силу этого всякая попытка вытеснения из языка пространственных характеристик связана со значительными условностями. Возьмём в качестве примера рассуждения Платона. Большинство его идей в неявной форме обладают пространственными характеристиками (например, идея корабля, в которой уже заложен принцип длины, ширины и высоты). Что касается других - например, идеи прекрасного, добродетели или свободы - о которых так любил рассуждать платоновский Сократ, - то они также немыслимы вне пространства или, точнее, социального пространства. Коротко говоря, пространственное мышление было свойственно всем социальным мыслителям, как древним, так и современным.
Благодаря этому мы не только понимаем, но и представляем утопические общества Платона (которые он изобразил в повествовании об Атлантиде и в диалоге о государстве), Т.Мора и их многочисленных последователей. Одни из них предпочитали населять своими конструктами южные острова, другие - отдалённые земли, а в последние двести лет стали создавать образцы идеальных обществ на других планетах (да что говорить об островах и планетах, если даже рай и ад, согласно ряду христианских концепций, имеют свою топографию). Подобные творения обычно относят к социально-философской литературе, определяя их, как утопические (т.е. описывающие несуществующее место). Подобное название, которое после «Утопии» Т.Мора стало определять целый жанр, служило указанием того, что речь идёт только о концептуальном, а не о реальном пространстве.
Но пренебрегать значением подобных концептуальных пространств, которые обладают парадигмальным потенциалом для преобразования, тоже было бы весьма опрометчиво. Ибо, если они и не всегда обладают прямым воздействием на выбор образца, с которым большинство общества хотело бы так или иначе идентифицироваться, то косвенное воздействие (подчас в весьма отдалённой перспективе) на поиск желаемого социального пространства вряд ли стоит кому-либо доказывать.
Но, разумеется, поиски новой концептуально-пространственной идентичности были свойственны не только социальным мыслителям; это было и есть повсеместное явление. Объяснение сего феномена заключается в том, что, во-первых, представления о необходимости изменения социального ландшафта нередко зарождались даже в низах (о чём свидетельствуют многочисленные бунты и восстания бедноты в разных странах). А, во-вторых, в произведениях признанных и влиятельных философов наиболее значимые и востребованные феномены (такие как свобода, права личности и др.) были подчас настолько лапидарно описаны, что создавалось впечатление о преднамеренном отсутствии точного определения. Рассмотрим это утверждение на примере понятия «свобода», которое было ключевым для значительной части французов XVIII в, не представлявших без неё грядущего переустройства социального пространства Франции.
При этом французы (мы имеем в виду, прежде всего, т.н. третье сословие) в конце XVIII в боролись не за какие-то абстрактные идеи свободы и равенства. Думать так - значит сильно недооценивать их умственные способности. Они прекрасно понимали, что эти идеи лишь упрощённо выражают то, что они достаточно ясно представляли себе в виде вполне житейских ценностей, воплощённых во временно-пространственных координатах. И представляли подчас весьма отлично от того, как их изображали признанные идеологи того времени (такие как Вольтер, энциклопедисты, Руссо). Что, кстати говоря, вполне соответствовало представлениям одного из них (Гельвеция), заметившего, что от несчастных нельзя требовать совершенства. К тому же идеологи, ориентируясь на свои концептуальные пространства, призывали по существу к разным свободам. Вольтера вполне устраивало пространство современной ему Франции, которое нужно было лишь иначе обустроить (кстати, под надзором королевской власти). А вот Руссо утверждал, что настоящая свобода была возможна лишь на лоне природы, в пространстве, лишённом почти всяких признаков культуры, ибо немыслимое без частной собственности культурное пространство, равно как и породившее его гражданское общество, являются величайшим злом человечества.
Всё это привело к тому, что идеи просветителей были приспособлены под насущные проблемы наиболее радикальных представителей третьего сословия, проповедовавших беспощадную войну против аристократов. Понятие свободы (как, впрочем, равенства и братства) было настолько искажено, что проявлялось в чуть ли не вседозволенности народных масс, руководимых «друзьями народа». Ближайшим следствием этого явилась социальная агрессия. Вначале она была обращена во внутрь общества (что привело к неслыханному ранее во Франции террору), а затем перенаправлена вовне (в этом случае объектом террора стали все европейские государства). В результате социальное пространство и время Франции, а затем и обществ Западной и Центральной (жертв французской агрессии) изменилось почти до неузнаваемости. А это, в свою очередь, не могло не сказаться на идентификационных изменениях.
Французы уже никогда не расставались с самоощущением личной свободы. В остальных западноевропейских странах, под влиянием занесённых французами идей о примате нации, постепенно происходила смена феодальной (т.е. узкосословной) идентичности их сообществ и наметился явный крен в сторону движения к образованию национальных государств. Иными словами изменение социального хронотопа с необходимостью влечёт за собой и изменения идентичности исторического субъекта .
Подробнее: Шабага А.В. Исторический субъект в поисках своего Я. - М.: РУДН, 2009. - 524 с.
Категории «пространство» и «время» относятся к числу фундаментальных философских категорий. Они являются таковыми прежде всего потому, что выражают наиболее общее и значимое состояние бытия. Но возникновение социально организованного, культурного бытия связано с формированием качественно специфических пространственно-временных структур. Они характеризуют общественную жизнь и не сводятся ни к пространству и времени «неживой», ни к биологической части бытия. Здесь возникает особый тип пространственно-временных отношений, в котором воспроизводится и живет человек как особое – культурное существо, субъект-объект культуры. Поэтому категории пространство и время в социально-гуманитарном знании (СГЗ) неизбежно переосмысливаются.
1.Социальное и культурно-историческое время . Роль времени в культуре. При рассмотрении философской или общенаучной категории времени (общего времени) обычно выделяют два рода концепций: субстанциональную (время как отделенную реальность, наряду с носителем бытия) или реляционную (время как отношение, образуемое взаимодействием носителей бытия). Некоторые исследователи, разрабатывая теорию времени, в дополнение видят еще и метафизическую (например, библейскую), психологическую (например, Августина) и субъективистскую (например, Канта) . В настоящее время, исходя из последних достижений науки, более философски и частно-научно обоснованной представляется реляционно-генетическая концепция (Стенона-Бергсона-Вернадского-Пригожина) – теория реального времени-дления. Согласно ей реальное время-дление является инвариантным аспектом любых проявлений длительности трансформаций реальности, а не только ее механического движения (реляционная концепция) или движения оторвавшегося воображением от своего какого-либо носителя (субстанциональная; библейская), или движения лишь самого воображения (психологическая; субъективистская). Различают объективное и субъективное время.
Объективное время – это форма бытия, характеризующая длительность существования каких-либо предметов-процессов бытия(«век» их жизни),смену их состояний,границы и стадии их изменения и развития. Время выражает каузальный (причинный) порядок мироздания . На каждом уровне организации мироздания время проявляет себя специфично. В связи с этим говорят о времени микро-, макро и мегамира. Ученые выделяют метрические и топологические свойства времени. Основными метрическими характеристиками времени являются длительность и мгновение. Мгновение – это далее не расчленимый квант длительности. Длительность – совокупность мгновений, продолжительность жизни объекта, в течение которой сохраняется существование объекта. К топологическим свойствам времени относят однонаправленность (векторность), многомерность, необратимость.
Итак, если время как философская и общенаучная категория (общее время) отражает различные параметры длительности бытия предметов- событий мироздания и мироздания в целом, то социальное время как категория СГЗ отображает общее условие и меру становления-проживания человеческого бытия, меру осуществления жизни. Здесь мера дления бытия проявляет себя качественно по-иному и означивается «человекоразмерно». Существование человека как (а)сложной макросистемы, (б)живого организма, (в)социального и (г)культурного существа протекает в разных временных масштабах с разными относительно друг друга скоростями при наличии единого физического времени. Человекоразмерное время включает в себя биологическое время, психологическое время, социальное пространство-время, социальную память, не только объективное, но и субъективное время.
Субъективное время – это другая длительность, которая отражает в нашем сознании на основании информационного обмена психологической памяти цепочку состоявшихся, существующих и ожидаемых событий, состояний, переживаний.. В субъективном времени возможна информационно-виртуальная инверсия, когда человек, реально и физически пребывая в настоящем, может «окунуться» в детство, вновь пережить первую любовь, почувствовать горечь возможных потерь и т.д. . Субъективное время вносит в реально происходящие процессы значимость и оценку, эмоциональность и интенсивность переживания. Отсюда оно принципиально неравномерно, в нем нет единственной истинной меры длительности. Интуиция времени у человека связана с ритмами его мозга (Н.Винер). В живые организмы словно встроены некие «биологические часы». Во внутренней субъективной реальности человек легко «перемещается во времени», а потому мгновение, оставаясь мгновением, оказывается текущим и длящимся (т.н. «двуколейность переживания») . Пониманию особенностей субъективного времени уделяли внимание выдающиеся философы ХХ века. Первым о внутреннем чувстве времени, его «длении» заговорил А.Бергсон. «Время» как нечто личное, достоверное, что противоположно тому чужому, что вмешивается в нашу жизнь, отмечает О.Шпенглер. Социальное время как «присутствие» (Хайдеггер), как «темпоральность» (Августин, Лейбниц) и темпоральные характеристики восприятия бытия – например, «теперь-точка», «ретенция», «протенция» (Гуссерль), как «осевое время» (К.Ясперс), отмечают другие мыслители.
Социальное время – это совокупность темпоральных отношений в обществе, временные параметры деятельности людей, характеризующие процессы изменчивости, происходящие в обществе. Социальное время имеет собственную организацию и структуру: (а)время истории народа и человечества; (б)время расцвета наций и этносов, системы, государства. страны; (в)время человеческого бытия .
Специфика социального времени состоит в том, что культура есть еще и система кодов, через которые передается информация о способах социальной жизни и ее очеловечивающих человека ценностях. В этой информации в свернутом виде задана длительность, плотность и ритмика деятельности предыдущих поколений , которая может быть отброшена, а может быть и использована. И сама смена поколений выступает как прерыв линии сохранения культуры и ее обновления. Социальное время непременно переосмысливается в гуманитарном контексте, имея дело с жизнью вообще и живым сознанием в особенности. Специфика социального времени состоит также в том, что в нем обнаруживается, как подмечает С.А Аскольдов, сила удержания прошлого и предвидения будущего , которой обладает лишь живое сознание или жизнь вообще. Если «отмыслить этот взгляд», то в мертвом останется лишь рядоположение статических моментов, в котором нет ни прошлого, ни настоящего, ни будущего, ибо их необходимо сознавать, а некому и нечем.
Социальное время или время в культуре многолико и выполняет несколько ролей. Первая роль: время есть последовательность действий, предписанных традиций и передаваемых через имя (в архаической формации) или через схемы технологий (в позднейших формациях). Вторая роль времени связана с передачей опыта через поколения. Поскольку моменты передачи опыта чреваты искажением информации, ее трансформацией и перекодированием, а то и полной утратой, то в социальном времени создается рисунок времени . Поскольку представители нового поколения могут вызвать новые события и процессы, то в социальном времени образуется ритмика истории. Смена поколений идет достаточно быстро, а выполнение поколением социально значимых ролей происходит и того быстрее: оно может занимать лишь треть биологического времени жизни поколения. Появляется изменяющаяся ритмика истории. Само понятие «поколение» есть понятие временное. Это социально-возрастная категория, обозначающая совокупность людей, возраст которых помещается в некотором хронологическом интервале . Но такая группа не застывает в одном положении, а передвигается вдоль временной шкалы. Само хронологическое время отодвигается на второй план, а на первый выходят качественные критерии. Они тоже подвижны и, естественно социально обусловлены, как-то: срок физического созревания юношества, средний возраст вступления в брак, время начала трудовой жизни, общность целей, ценностей, образа жизни. Эти критерии различны в разных культурах и в пространстве одной и той же культуры. Благодаря сосуществованию поколений в один и то же момент, индивид, живя «настоящим» своего поколения, заглядывает в «прошлое» и «будущее» через «настоящее» последующего и предшествующего поколений.
Третья роль времени обусловлена ритмической природой социальной жизни. Изменения способов человеческой жизнедеятельности на протяжении истории влияли на характер протекания социального времени. По Э.Дюркгейму время рассматривается как символическая структура, которая способствует организации общества посредством временных ритмов. Анализ роли времени в обществе предпринимал и Г.Зиммель. Главная проблема, которую он видел в анализе времени - как возможно совместное существование социального порядка и социального изменения. Ведь стабильные социальные формы внешних объектов остаются фиксированными в течение определенного времени и действуют на индивидов как сдерживающий фактор. Он признавал наличие колебаний в индивидуальности субъектов. Человеческое поведение он рассматривал как полагающее себе границы и в то же время стремящееся их нарушить. Этот парадокс культуры – следствие другого, согласно которому время существует и не может существовать. Реальность не является временной, поскольку существует только настоящее. Прошлое уже не существует, а будущее еще не существует. Прошлое и настоящее – границы, определяющие настоящее в точке своего столкновения. Поэтому настоящее не может существовать, если прошлое и будущее не существуют. Однако это логическое доказательство неприложимо к внутренней жизни. Прошлое и будущее действуют в настоящем, хотя это и нельзя доказать логически.
Такую попытку делает Н.А.Бердяев. Во времени, как правомерно говорит он, казалось бы обнаруживается «злое начало, смертоносное и истребляющее». Будущее пожирает и прошлое и настоящее. Но с более широких позиций познания конечное имеет выход в вечность , имея свое предбытие и послебытие. Так что разрыв и «угроза» будущим устраняется историей. История имеет прочность, в ней действует «истинное время», в котором нет разрыва между прошлым, настоящим и будущим, «время ноуменальное, а не феноменальное» .
П.Сорокин и Р.Мертон, анализируя качественную природу социального времени, доказывали, что смысл событию придает его временное оформление , что знание специфических периодов времени зависит от значения, приписываемого им. Понятие качественного времени они считают важным. Социальное время представляет собой качественное явление, а не только количественное, что чувство времени возникает из верований и обычаев, общих для той или иной группы. Они подчеркивали важность аналитических различий между социальным и астрономическим временем. Первое является выражением изменения социальных явлений в терминах других социальных явлений, взятых как точка отсчета.
Четвертая роль времени определяется тем, что представление о времени является ключевым в категориальной сетке мышления и модели мира, выстраиваемой каждой культурой. То, какой смысл вкладывается в понятие «время» тем или иным народом, той или иной культурой зависит от многих причин. Формообразующая, конструирующая функция времени в культуре проявляется также в том, что каждая культура самоопределяет себя во времени, создавая свой календарь, называя дату своего рождения, вехи своего развития, формируя представления о центре времени, выдвигая определенные концепции времени. Календарь не просто отмеряет время суток, а является хранителем коллективной памяти народа, его культуры, организатором его сознания, точкой опоры в длящемся бытии . Через календарь время культуры воспринимается и концептуализируется. Мало найдется других показателей культуры, которые в такой же степени характеризовали бы ее сущность, как понимание времени. В концепции времени воплощается рефлексия эпохи и деятельности, интерпретация сложившейся культуры, ритм социального времени и эффективность прогностического сознания. Все эти моменты детерминируют исторически-культурную «парадигму» времени.
Сегодня понятия западное и восточное в культуре человечества приобретают не географическое понимание. Тем не менее для так называемого западного и восточного сознания своеобразно понимание и отношение ко времени. Для западного сознания время – это скорее физико-химическая, биологическая, социальная, философская длительности с их ритмами, стадиями. Для восточного сознания время как различная его длительность с разными ритмами есть лишь скорее аномалия. Отсюда западное сознание живет, ориентируясь на настоящее как настоящее и творит его, опираясь на прошлое, поглядывая на будущее. Для восточного сознания реальным является фактически прошлое, оно для него представляется существенным и «светлым». Настоящее же по сути дела в сознании отсутствует, оно всегда несущественно, оно всегда лишь переходный период от прошлого к будущему, оно «несветлое», настоящее ждется, и ждется из прошлого или из будущего. В прошлое можно вернуться и начать все сначала, надо лишь преодолеть «помехи», сломать «несветлое». Получается так, что неумение жить в настоящем, строить и ценить настоящее невольно выбрасывает из мировой истории целые страны и народы, выбрасывает из мировой экономики, технологии, культуры, оставляя в политике, причем как бочку с порохом – с «претензиями» к настоящему, угрозами и разборами (в виде войн, революций, смут) или подготовкой к ним, причем как к образу жизни. Россия в целом, к сожалению, и сейчас не исключение. То она строила будущее, промахиваясь мимо настоящего, теперь («возрождение») она строит прошлое, вновь не очень пока попадая в настоящее. Словосочетание «сэкономить время» применительно только по отношению к социальному, а не физическому времени, метрика которого задана самой природой. Специфика социального времени тесно связана со спецификой пространства.
2. Категория пространство в гуманитарном контексте. В социально-гуманитарном контексте общефилософская категория пространство обозначается как «социальное пространство» . После того как в течение веков проблемой науки было почти только «абстрактное пространство» геометрии, затем «субстанциональное (отдельное от носителя) пространство» и «реляционное пространство», перед человечеством встал вопрос о «социальном пространстве». В философии под пространством понимается протяженность бытия в целом и протяженность-рядоположенность-сосуществование конечных явлений в нем. В дополнение к подобной общей характеристике в СГЗ, во-первых, социальное пространство - это то, что в бытии является общим проживанием и общим всем переживаниям , возникающим благодаря органам чувств и духовной реальности, благодаря деятельности совместно (хронотопно) живущих людей. Далее, социальное пространство означает не столько протяженность (территории) сколько интенсивность и наполненность всеобъемлющих отношений.. Современная физика определяет понятие пространство как такое, в котором действуют различного типа поля; в СГЗ родство поля и системы отношений несомненно. Тем не менее, в СГЗ у пространства замечается иная обусловленность, детерминация, иная пространственно-временная структура.
Во-вторых, социальное пространство, вписанное в пространство биосферы и космоса, обладает особым человеческим смыслом; оно становится пространством ноосферы. Оно расчленено на ряд подпространств. Их характер, метричность, топологичность, их взаимосвязь со временем, использование символики делают их не столь стабильными (как, например, у «микромира», «макромира», «мегамира»). Пространство и подпространства ноосферы исторически меняются по мере развития общества и культуры человека. Уже на ранних стадиях социального времени, называемого историей, формируются особые пространственные сферы жизнедеятельности, значимые для человека (жилище, поселение). Освоенное человеком и неосвоенное пространство бытия с точки зрения физических свойств не различаются. Но в социальном плане «очеловеченное пространство» отличается существенно – оно определено отношениями человека к миру, исторически-временными складывающимися особенностями воспроизводства способов человеческой деятельности и поведения. Специфические черты социального пространства отражаются в мировоззрении человека соответствующего времени. Так, в мифах прослеживается различие частей пространства– упорядоченное пространство человеческого бытия и остальное, в котором действуют недобрые и непонятные человеку силы. В представлениях древнего египтянина освоенное им пространство по берегам Нила было центром Вселенной, а течение Нила в силу его хозяйственно-культурной значимости задавало главное направление в мировоззрении пространства. Средневековому мышлению было свойственно рассматривать пространство как систему мест (топосов), наделенных определенным социально-культурным еще и символическим значением. Различался «греховный мир» и мир небесный – мир «чистых сущностей». В земном мире выделялись иррациональные места, периоды времени и особые направления паломничества к святым местам, особые места в храме, дающие исцеление и искупление грехов.
В-третьих, в категории социальное пространство важно учитывать, что оно не просто отражает культурно-гуманитарные контексты, но и активно воздействует на общественную и частную жизнь: оно мировоззренчески функционирует в качестве своеобразной культурной матрицы . В соответствии с ней и пространственной архитектоникой в определенные времена закрепляется и распространяется характерный образ жизни людей, определенный тип отношений социального пространства, связи человека с человеком, человека с природой. Например, в пространственной композиции городской архитектуры сконструированы особенности производственной жизни и быта людей того или иного этапа истории общества, специфика их социально-культурных связей, особенности этнических традиций. Новые пространственные формы наслаиваются на прежние, меняя городскую пространственную среду , «подгоняя» временное-историческое развитие.
В-четвертых, если пространство представлялось сначала «прямоугольным» (евклидово), затем «искривленным» (неевклидово: Н.И.Лобачевского, А.Эйнштейна), то социальное пространство в СГЗ корректирует его общефилософское понимание и заставляет представлять его скорее «фрактальным» (Б.Мандельброта). В социальном пространстве возможны и сильно искажающие очки. Тем не менее, если даже социально-пространственные отношения рассматриваются через них, то и в этом случае все приходит в обычный порядок, но через некоторое время. В зависимости от того, что за проблема, что за очки – на это уходит, где десятилетия, где столетия и тысячелетия, а где и миллионы лет. Скажем, от Homo habilis до Homo sapiens. Сюда же можно отнести и такую особенность социального пространства как значительное несовпадение метрического и топологического, физического и социально-культурного. Скажем, люди пространственно проживают рядом, а социально - далеко друг от друга: возникают социально-пространственные отношения , переживания, позиция несправедливости. Или, поскольку социальное пространство это больше всего социально-культурные отношения, то возможно не телесное, а «социальное обнуление», «нулевой субъект», а «историческая личность» может быть весомее всей армии (как маршал Г.К.Жуков), а у любящих - «весь мир на двоих» и т.п.
Сегодня все большее социально-культурное значение приобретает пространственный фактор бытия. На смену эпохам насилия постепенно, хотя и драматически, приходит эпоха толерантности : уходят в прошлое такие агрессивно насыщенные понятия как «геополитика», «империя» и другие; приходят иные - «экономическое пространство», «культурное пространство», «информационное пространство», «региональные пространства» и т.д. Они неплохо выполняют свою социально-гуманистическую роль. В них подчеркивается действие конвенционально единых правил жизни человеческого сообщества, добытых толерантным, читай, культурным, способом. В них ярче заметен в категории пространство его социально-гуманитарный контекст. Понятия «бесконечность-конечность» и «вечность-невечность» в СГЗ имеют не только количественный, но прежде всего качественный смысл. Специфика социального пространства тесно связана со спецификой социального времени. Социальное время есть внутреннее время общественной жизни, оно вписано во внешнее по отношению к нему время природных процессов.
3.Введение понятия хронотопа в социально-гуманимарное знание.
Категории пространство и время в СГЗ неизбежно переосмысливаются. И переосмысливаются в гуманитарном контексте. С этой целью входит в оборот такое понятие как хронотоп, введенное А.Ухтомским и М.Бахтиным. Хронотоп (от chronos – время и topos – место) – отображение времени и пространства в художественном произведении в их единстве, взаимовлиянии и трансформации.
Если шире, то хронотопом называют конкретное единство пространственно-временных характеристик какого-либо со-бытия в конкретной ситуации бытия . Близкое к нему значение имеет понятие пространственно-временной континуум, в сущности обозначающий то же самое, но применяемое онтологически в философии.
Понятие хронотоп в его универсальном значении, например, показывает насколько трудно солидаризироваться с таким мнением, что «чувства человека (в смысле ощущения своего душевного состояния – счастье, страдание, покой, тревога и т.п.) не имеют никакого отношения к физическому времени, или длительности», а все душевные состояния находятся вне времени и телесного мира.
Особенности «художественного хронотопа» состоят в том, что с его помощью воспроизводят пространственно-временную картину мира и организуют композицию произведения, но не прямо, а конструируют условный образ. Поэтому в произведениях искусства «художественное время» и «художественное пространство» не тождественны реальному времени и пространству. Это именно «образ времени-пространства» со своими сконструированными художником конкретными особенностями и признаками. Время и пространство здесь может быть соотнесено или нет с реальным историческим и локальным. Оно может быть непрерывным, развертывающимся линейно, а может быть намеренно переставленным (в виде композиции, инверсии, ретроспекции), замедленным (ретардация), свернутым (до ремарки). В художественном хронотопе существует «психологическое время». Отраженное в сознании героя, нарочито замедленное или вовсе останавливающееся психологическое время, обозначенное одной фразой «прошел год», движение времени объяснено тем, что за указанный промежуток произошедшие события не важны для дальнейшего развития действия и места. Хронотоп, выраженный фразой-приемом «в то время как» может показать одновременное параллельное действие в различных точках пространства. Создаваемое художественное пространство есть некая модель, картина мира, в котором происходит действие. Пространство при этом может быть широким или узким, открытым или замкнутым, реальным или вымышленным, как в сказке, фантастическом произведении. Зачем? Художественно сутрировать, чтобы выявить самое существенное, не дать пропустить основное, главно е.
Художественный хронотоп имеет различные составляющие, они имеют чаще всего символический смысл. Существуют «пространственные символы» - в литературе можно говорить об особом значении таких элементов хронотопа как город и деревня, земля и небо, дорога, сад, дом, усадьба, порог, лестница. Есть и «временные символы» - смена времен года, переход от дня к ночи и т.п. Жанровая специфика определяется прежде всего жанровым хронотопом. Жанр баллады выражает историческое или фантастическое время и пространство. Эпос - эпическое время. Лирика – субъективно и лирически окрашенное время и пространство, нарушая-размыкая все границы пространства и времени. Эвристичность понятия «хронотоп» проявляется при изучении «ядра» и «периферии» культуры, отторжений и притяжений различных культур.
Резюме. Итак, переосмысление категорий пространства и времени в гуманитарном контексте приводит к необходимости говорить о социальном пространстве и социальном времени, как в отдельности, так и в их пространственно-временном социально-культурном континууме.
Литература:
2. Аскольдов А.С. Время и его преодоление//На переломе. Философские дискуссии 20-х годов. М., 1990.
3. Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. М., 1979.
4. Бергсон А. Два источника морали и религии М., 1994.
5. Бердяев Н.А. Смысл истории//На переломе. Философские дискуссии 20-х годов. М.,1990.
6. Дмитриев А. Хаос, фракталы и информация//Наука и жизнь. 2001. №5.
7. Курашов В.И. Философия: познание мира и феномены технологии. Казань, 2001. Гл.2.
8. Новейший философский словарь. Минск, 2003.
9. Пригожин И., Стенгерс И. Время, хаос, квант М.,1994.
10. Симаков К.В. Концепция реального времени-дления В.И.Вернадского//Вопросы философии. 2003. №4.
11. Солодухо Н.М. Характеристика ситуации и сущность ситуационного подхода как средства познания//Ситуационные исследования. Вып 1. Казань, 2005.
12. Хайдеггер М. Разговор на проселочной дороге. СПб.-М., 1991.
13. Современные философские проблемы естественных, технических и социально-гуманитарных наук. М., 2006. (Раздел 4.6.).
14. Философия науки. Ростов-на Дону, 2006. (Глава 3.).
Время - характеристика изменчивости. Пространство - характеристика устойчивости. Движение - единство устойчивости и изменчивости.
Из концепции времени Канта следуют две идеи, важные для выяснения как форм присутствия времени в познании, с одной стороны, так и способов познания самого времени -- с другой. 1. это идея об априорности (до опыта) времени как необходимом представлении, лежащем в основе всего познания как его «общее условие возможности». Оно представлено аксиомами, главными из которых являются следующие: время имеет только одно измерение; различные времена существуют не вместе, а последовательно.
Признавая, что кантовская идея априорности времени имеет фунд-ное значение для философии познания в целом, независимо даже от трактовки самого происхождения априорности, будем исходить из того, что априорность представлений о времени укоренена в культуре, в материальной и духовной деятельности человека. Однако известно, что каждое новое поколение обретает представления о времени не только как следствие собственной деятельности и опыта (после опыта), но и как наследование готовых форм и образцов, т.е. уже имеющихся в культуре представлений о времени.
2. это видение его как «формы внутреннего чувства, т.е. созерцания нас самих и нашего внутреннего состояния», как «непосредственного условия внутренних явлений (нашей души)», определяющего отношение представлений в нашем внутреннем состоянии. Кант ставит проблему «субъективного» времени, понимая, что, в отличие от физического, это собственно человеческое время -- длительность наших внутренних состояний. Имеется в виду не биофизическая характеристика процессов психики и не субъективное переживание физического времени (например, один и тот же интервал переживается по-разному в зависимости от состояния сознания и эмоционального настроя), а время «внутренних явлений нашей души.
Французский мыслитель А. Бергсон разработал концепцию времени как длительности, время предстает неделимым и целостным, предполагает проникновение прошлого и настоящего, творчество (творение) новых форм, их развитие.
Для понимания природы времени в познании и способов его описания особую значимость имеют опыт и идеи герменевтики. Время осмысливается здесь в различных формах: как темпоральность жизни, как роль временной дистанции между автором (текстом) и интерпретатором, как параметр «исторического разума», элемент биографического метода, компонент традиции и обновляющихся смыслов, образцов. Время становится внутренней характеристикой жизни субъекта. Время рассматривается как особого рода категория духовного мира, обладающая объективной ценностью, необходимая для того, чтобы показать реальность постигаемого в переживании. Собственно герменевтическое видение проблемы отстояния во времени состоит в том, что дистанция позволяет проявиться подлинному смыслу события.
М.М. Бахтин переосмысливая категории пространства и времени в гуманитарном контексте, ввел понятие хронотопа как конкретного единства пространственно-временных характеристик для конкретной ситуации. Бахтин оставил своего рода модель анализа темпоральных и пространственных отношений и способов их «введения» в художественные и литературоведческие тексты. Взяв термин «хронотоп» из естественно-научных текстов А.А. Ухтомского, Бахтин не ограничился натуралистическим представлением о хронотопе как физическом единстве, целостности времени и пространства, в «художественном хронотопе» происходит «пересечение рядов и слияние примет» -- «время здесь сгущается, уплотняется, становится художественно-зримым; пространство же интенсифицируется, втягивается в движение времени, сюжета, истории. Приметы времени раскрываются в пространстве, и пространство осмысливается и измеряется временем».